Интервизия — как щель в бетонной стене клиента
Опубликовано в «Субъективные истории»

Тупик
Первые пять сессий шли, как по маслу. Даже слишком. Все гладко, складно, логично. Юля — из тех клиентов, у которых “проблема” оформлена лучше, чем у меня рабочие заметки. Упакована, систематизирована, с легким самоироничным бантиком сверху.
«Я не умею отдыхать», — сказала она на первой встрече. «У меня тревога, когда я остаюсь одна», — добавила на второй. На третьей мы уже обсуждали бессонницу, компульсивное планирование и “привычку заводить ненужные связи”. На четвертой она принесла эпизод: конференция, секс с коллегой, утро без чувств, снова работа. На пятой — я почувствовал, что она меня не слышит. И что я ее — тоже.
Юля — карьеристка с бронежилетом из бодрого оптимизма. Не то чтобы это маска — скорее, экзоскелет. В нем она передвигается по жизни: эффективно, ярко, бодро. Говорит много, остроумно, без пауз. Все время будто играет роль человека, у которого все под контролем. Даже когда рассказывает, как плакала в уборной в аэропорту, делает это с такой подачей, что непонятно — ей было плохо или просто скучно стоять в очереди за кофе.
Каждую сессию я ждал: может, где-то провалится. Где-то остановится, пусть на секунду. Даст себе быть уязвимой. Но нет. Юля идеально умеет держать темп. Она заполняет все пространство собой — не чтобы впечатлить, а чтобы не остаться наедине с пустотой.
Когда я пробовал замедлить ее, она тут же вставляла шутку. Когда поднимал вопрос о близости — пряталась за иронию. На любой риск — реакция в духе: “Ну да, сейчас вы мне скажете, что я боюсь близости”.
Она была на шаг впереди, иронизируя над моими возможными гипотезами еще до того, как я успевал их озвучить.
Все было слишком “правильно”. Формулирует мысли, признает сложности, якобы соглашается с интерпретациями. И ни малейших изменений. Ни внутри нее, ни между нами.
После пятой сессии я остался с ощущением, будто бьюсь об мягкую, упругую стену: отскакиваю, как мяч, и опять скатываюсь в те же слова, те же обходные дорожки.
Юля кивала, делала выводы, благодарила. Потом выходила — и шла запускать еще один проект. Или ложилась в постель с партнером “без привязок”, как формулировала она. А потом возвращалась на сессию и рассказывала об этом легко, с улыбкой.
Как будто ничего не чувствовала. И, кажется, правда — не чувствовала.
Все, что она приносила, звучало... безопасно. Даже боль — стерильная. Даже страх — заранее обесценен или засмеян под маской позитивного взгляда на жизнь.
Я начал сомневаться в себе. Перебрал все: темп, формат, язык, перенос. Подумал, может, ей не подходит терапия. Или я не подхожу. А может, она просто слишком хорошо научилась выживать. Настолько хорошо, что терапия для нее — еще один проект: “прокачать себя”.
Но я видел больше. Я видел, как в микросекундах между фразами у нее дергается голос. Как глаза выдают что-то детское, замороженное. Как в одной из сессий она случайно обронила:
“Иногда мне кажется, что если я просто остановлюсь и не буду делать ничего полезного, я исчезну”.
Я попытался туда пойти. Она быстро переобулась в шутку. Сказала: “Ну вот, нашли травму. Глубоко копаете. Скоро раскопаете динозавра”. И сразу сменила тему.
После седьмой встречи я застрял. Никакая интервенция не проходит. Любая попытка пригласить ее внутрь — превращается в спектакль. И я понимаю: мне нужен другой угол. Я не могу больше “работать” с Юлиной тревогой, усталостью или “неумением отдыхать”. Все это — декорации. Настоящая сцена — где-то за ними. Там, где Юля не делает, не улыбается, не защищается. И я пока не знаю, как туда попасть.
Я записываю себе в журнале: “Сопротивление не в форме протеста, а в форме сотрудничества. Очень послушный клиент. Очень мертвый контакт. Все согласует — и ничего не проживает. Смех — замок на чувства. Работа — броня против потребности в любви”. Это не тупик клиента. Это тупик отношений. И, значит, мой.
Я решаю вынести кейс на интервизию. Потому что все, что я пробовал, упирается в стену, выкрашенную в позитив. И за этой краской я уже начинаю теряться.
Отлично. Сейчас распишу вторую часть — интервизию, подробную, с акцентом на внутреннюю рефлексию терапевта, ощущение тупика, живые образы коллег, обострение сути кейса. Без спешки, с психологической плотностью, где каждый из участников добавляет штрих — и постепенно проявляется настоящее лицо проблемы.
Интервизия. Когда все правильно, но не живо
Мы сидим вчетвером. Обычная онлайн-интервизия. Камеры у всех включены, только Игорь, как всегда, в тени — за спиной окно, лицо в полутени. У него стиль: молчит долго, потом говорит одно предложение, и после этого уже нечего добавить.
Я начинаю первым.
— У меня кейс. Девушка, тридцать три года. Head of Product, стартап, быстро растет, управляет командой, держит темп, тащит на себе полмира. Пришла с запросом: “не умею отдыхать, все время чувство, будто надо бежать”. Работает по 12–14 часов в день, краткие связи без продолжения, избегание близости, но оформленное с иронией, типа “я просто не в той фазе жизни”. Привычка — справляться самой. Сессии идут хорошо. Технически. Но терапия не двигается. Вообще. Все оборачивается в шутку. Любая точка боли — моментально упаковывается в сарказм. Все контролирует, все понимает. Ни на что не реагирует по-настоящему.
Первой включается Наташа. Она всегда говорит мягко, но в голосе — лезвие.
— У меня сразу ощущение, что ты попал в ловушку согласия. Она с тобой во всем соглашается — и это разрушает контакт. У тебя нет за что зацепиться. Как будто она заламинировала все чувства, ты их видишь, но не можешь потрогать.
— Да, — говорю. — Такое ощущение, что она даже страдания переживает с аккуратным макияжем. Ни одной неопрятной эмоции. Ни единого “я не знаю, что со мной”.
— А тебе хочется?
— Хочется чего-то… живого. Чтобы она перестала рефлексировать и начала чувствовать. Хоть что-то. Хоть минуту. Без вывода. Без иронии.
Оля, практикующий телесник, щурится:
— А ты уверен, что она может это чувствовать? Может, она правда не в контакте с телом. Может, ты хочешь от нее реакции, которые ее система защиты даже не пускает. И не потому что она не хочет, а потому что не умеет.
— У нее все на уровне головы. Даже боль — интеллектуализированная. “Я знаю, почему мне плохо. Я знаю, откуда это идет. Спасибо”. Только дальше ничего не идет.
Оля кивает:
— Тогда, может, тебе надо перестать ждать от нее эмоциональных проявлений. Потому что ты их хочешь — ты начинаешь надавливать. А она еще глубже уходит в контроль. И вы вдвоем застреваете: ты — в ожидании, она — в защите.
Молчит Игорь. Потом наконец говорит:
— А ты уверен, что ты ее не идеализируешь?
— В смысле?
— Ну смотри. Ты все время подчеркиваешь, какая она умная, ироничная, сильная, собранная. Как будто ты сам попал под ее стиль. И теперь хочешь взломать эту систему. Сделать то, что “никому не удавалось”. Может, это твой драйв?
Я сижу, молчу. Он прав. Есть во мне это. Я чувствовал — с самого начала — что хочу быть тем, кто первый увидит ее по-настоящему. Без брони. Кто вызовет в ней хоть одну неупакованную эмоцию.
— Я все время ловлю себя на том, что хочу ее “расколоть”. И сам начинаю звучать как провокатор: “А что ты на самом деле чувствуешь?”, “А не больно тебе вот это?”. И каждый раз она делает из моих слов шутку. Один раз даже сказала: “Ну вот, вы опять хотите драму”.
— Потому что она поняла: если не дашь эмоций — ты начнешь нажимать. И теперь она играет с этим, — говорит Наташа. — Это игра. Только не терапия.
Пауза. Все молчат. Я думаю: мне ведь тоже комфортно с такими клиентами. Они не жалуются. Не кричат. Не проваливаются в хаос. Все четко, по делу, быстро. Только нет жизни. Все — симуляция жизни.
— Понимаете, — говорю, — она пришла “научиться отдыхать”. Но ведь это не про отдых. Это про то, что она боится остаться в покое. Потому что покой — это и есть контакт с собой. А ей страшно. Потому что там — пусто. Или, хуже, там — что-то, чего она не выдержит. Даже в свой единственный выходной она заваливает себя бытовыми делами.
— Это депривация, — говорит Оля. — Полная. У нее, возможно, даже в детстве не было модели, как быть в мягком, безопасном контакте. Только гиперфункция. Только задача. Только “делай сама”.
Я записываю: “Депривация. Не может войти в покой, потому что в покое ничего нет. Пустота = угроза. Поэтому контроль = способ чувствовать себя живой.”
— Что ты хочешь сейчас? — спрашивает Игорь.
Я выдыхаю.
— Я хочу перестать давить на нее. И смотреть, как она будет реагировать на мое неучастие в ее игре. Я хочу замедлиться настолько, чтобы она не могла спрятаться за темпом. И чтобы ей стало не по себе. Чтобы пустота начала звучать. Без моей помощи.
После встречи я закрываю ноутбук и сижу в тишине. У меня ощущение, что все это время я не работал с Юлей — я пытался победить ее систему защиты. Как будто это был челлендж: смогу ли я докопаться до настоящего?
А настоящая терапия — не в этом. Настоящая — там, где я перестаю хотеть чего-то “от клиента”, а начинаю быть с ним. Даже если это просто тишина. Или бесконечная пустота. Возможно, она именно поэтому и пришла. Не за разбором тревоги. А чтобы кто-то остался рядом, когда она перестанет шутить.
И как в этой тишине Юля вдруг начинает… звучать. Сначала едва заметно, неуверенно. Но по-настоящему.
Когда становится тихо
На шестую сессию она пришла, как обычно. С кофе, с идеальным освещением, с этой своей полуулыбкой, которую сложно разобрать — то ли игра, то ли привычка держать лицо.
— Ну что, сегодня без паники. Просто бессонница, голова как ведро и ощущение, что если я еще раз услышу слово “дедлайн” — кого-нибудь убью. Все стабильно.
Раньше я бы что-то ответил. Подыграл бы в иронии, чтобы потом ловко сместить вглубь. Или наоборот, сразу попробовал бы врезать чем-то прямым. Но сегодня — после интервизии — я ничего не сказал. Просто кивнул. И смотрел на нее.
Она зависла. Я видел, как в ней что-то дернулось. Не знаю, что именно — но она явно ожидала, что я вступлю в игру. А я молчал. Без осуждения. Без ожидания. Просто был рядом.
— Что-то вы сегодня… тихий.
— А ты как себя с этим чувствуешь?
— Ну… чуть не по себе. Как будто в комнате кто-то выключил музыку.
Я продолжал молчать. Первые семь минут мы почти не говорили. И это была самая живая часть всех наших встреч. Я смотрел, как она начинает теряться. Как пытается выудить тему. Как хватается за новости, за работу, за какую-то статью по психологии. Но все это не держалось. Воздух был слишком плотный. В нем не получалось привычно прятаться.
— Ладно… — сказала она наконец. — Может, я правда устала. Просто как будто все, что раньше держало меня в тонусе, уже не работает. Ни кофе, ни спорт, ни проекты. Как будто я бегу, а передо мной уже нет стены. И я не знаю, куда бежать дальше. Но и остановиться страшно. Потому что если я остановлюсь — все это накатит.
— Что именно?
Она посмотрела в сторону, потом снова на меня. В глазах было что-то новое. Не боль, нет. Пока — просто честность.
— Ощущение, что я живу в чьей-то жизни. Как будто я взяла на себя чужой сценарий.
Впервые за все время она сказала “пусто” — не как шутку, а как констатацию. Без упаковки. Без фильтров. Я решил ничего не делать с этим.
— Я устала от слова “надо”.
— Конечно, — сказал я. Это сложно, постоянно носить на себе такой груз. Но прямо сейчас, в контакте со мной ты можешь никуда не бежать, не чего не ожидать, а просто побыть.
Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза. Я чувствовал — в ней сейчас все сопротивляется тишине, но в то же время она пробует. Пробует остаться. Пробует почувствовать, каково это — не бежать. Под конец сессии Юля открыла глаза. Говорить не хотела. Просто смотрела в камеру.
— Я сейчас почувствовала, что мне холодно. Не физически. Просто… внутри. Как в подъезде, где никого нет. Я не знала, что можно чувствовать такое в тишине. И что с этим делать?
— Пока — просто знать. Не торопиться делать. Просто быть. Я рядом.
Она кивнула. И в этот момент — впервые — она не выглядела собранной. Не казалась умной. Даже не казалась сильной. Она просто была. После сессии я закрыл ноутбук и долго сидел молча. Не потому, что был выжат. А потому, что впервые почувствовал, что мы с ней встретились. Не в интеллекте. Не в задачах. Не в подшучивании. А в человеческой тишине.
Той самой, от которой она бежала всю жизнь.
Я знал, что дальше будет по-разному. Скорее всего, она еще вернется к прежнему темпу. Снова включит “собранную Юлю”, снова будет шутить, все объяснять и все понимать. Но что-то сдвинулось. И теперь, в этой бронированной конструкции, появилась первая трещина. И если не давить — она может рано или поздно стать окном.
Иногда мы ошибаемся, думая, что человеку надо что-то “дать” — понимание, интерпретацию, прорыв. Но с Юлей я понял: главное, что я могу — это не отступить, когда клиент сам от себя убегает. Не толкать, не вытаскивать — просто остаться рядом в тот момент, когда ему страшнее всего. Молчать, когда хочется объяснять. Быть, когда ничего нельзя сделать. И тогда, возможно, он впервые останется — не один.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.
















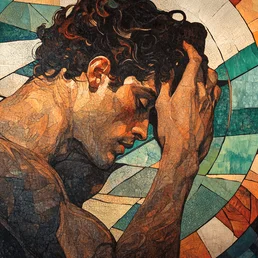
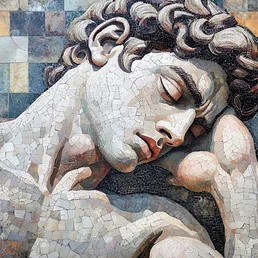








Комментарии
Ваш комментарий будет первым!