Разговор "в подушку". Как супервизия помогает выйти из тупика в работе с клиентом
Опубликовано в «Субъективные истории»

Уверенность
Игорь записался ко мне весной: “не чувствую радости, жизнь проходит мимо, вроде бы все нормально, но внутри — пусто”. Мужчина, под сорок, работает в IT, в отношениях, без детей. Я сразу отметил: высокий интеллект, стабильный контроль, минимальный доступ к чувствам. Зато — хороший уровень рефлексии. Он слышит, не уходит в глухую защиту, не спорит. Значит, работать можно. Первый месяц я был доволен.
Игорь приходил вовремя, никогда не отменял, приносил размышления, фиксировал динамику. Понимал с полуслова. Иногда даже с полужеста. Интерпретации ловил быстро, вопросы не скидывал, наоборот — пробовал с ними что-то делать. Игорь казался «идеальным клиентом». В меру сложный, в меру устойчивый, с внятным запросом и без явного сопротивления. Работать с ним было похоже на решение уравнения: есть переменные, есть исходные данные, и есть логика — по которой все должно прийти к движению.
Я так и шел: шаг за шагом. Контакт — есть. Контейнирование — работает. Интервенции — отзываются. Все в порядке.
Я поставил себе ориентир — шесть месяцев на стабилизацию, потом вглубь.
Сессии шли по расписанию. Игорь рассказывал про работу: перфекционизм, прокрастинацию, синдром самозванца.
Про отношения: “мы вместе уже семь лет, но как будто каждый в своей комнате”.
Про усталость: “я в отпуске, и все равно не могу расслабиться”.
Про детство: “мама всегда знала, как правильно, папа — просто жил рядом”.
Про тревогу: “не паника, не ужас — просто внутренний шум, от которого невозможно отдохнуть”.
Мы делали телесные паузы. Замедлялись. Проверяли ощущения. Он пытался почувствовать, где в теле живет тревога. Первые месяцы говорил: “ничего не чувствую”. Потом: “наверное, в груди”. Потом: “как будто давит, но не больно”.
Это был прогресс. Я не ждал от него взрывов или катарсиса — мне важно было, что он движется. Медленно. Но движется. Я видел, как меняется его тон: с первого “наверное, я просто странный” — до “похоже, у меня есть привычка избегать контакта”.
Именно в такие моменты я чувствовал удовольствие от своей работы. Не когда кто-то рыдает или “прозревает”, а когда человек начинает думать по-другому. Когда у него появляется собственный внутренний наблюдатель. Когда он сам ловит себя на автоматизме и говорит: “ага, вот это, кажется, старая история”. Это означало, что он не просто слышит — он работает.
И вот тут, кажется, все должно было пойти дальше по накатанной, но дальше не пошло. Вообще. Он продолжал приходить. Слушал, кивал, иногда записывал. Я — тоже. Мы говорили про его усталость, про то, как он залипает на работе, про то, как не может выдохнуть в отношениях. Я вел сессии так же, как раньше: с вниманием, включенно, с пробросами на тело, с фокусом на чувства. Игорь отвечал. Реагировал.
Даже иногда сам предлагал: “можно мы попробуем побыть в молчании?”
— Конечно, — говорил я. И мы молчали.
Но с какого-то момента я начал ловить себя на странном ощущении. Как будто я говорю в подушку. Он — вроде бы здесь, передо мной, но не отзывается.
Не потому что сопротивляется, но в сессиях как будто не остается следа. Мы обсуждали важные вещи. Но через неделю — будто ничего не было. Повторялись слова, интонации, даже формулировки. Я начал узнавать собственные фразы — только теперь они звучали из его уст. Механически. Чисто. Как отзубренная роль. Сначала я подумал, что это просто фаза интеграции. Что он проговаривает, переваривает, перекладывает на язык. Я ждал, что за этим появится движение. Но оно не появилось…
И в этот момент я впервые задал себе вопрос, от которого и стало по-настоящему не по себе: а может, это уже не терапия, а привычка?
Супервизия
Я записался на супервизию не потому, что не знал, что делать с клиентом — наоборот, я знал, что делаю все правильно. Именно это и насторожило. Терапия шла почти год. Внешне — безупречно: запрос обозначен, контакт есть, динамика была. Но последние месяцы я выходил с сессий как после медитации — только не очищенный, а будто отстраненный.
Супервизор слушал. Я не за ответом пришел — я пришел проверить себя. Описал динамику. Как сначала была тяга, был контакт. Как он начал замечать повторяющиеся паттерны, стал рефлексировать. Я считал это прогрессом.
И это действительно был прогресс, но в какой-то момент все застыло. Супервизор спросил, как я это ощущаю телом. Я сразу понял, к чему он. Потому что последнее время после этих сессий я чувствовал странную пустоту. Он уточнил, задавал ли я клиенту прямые вопросы о процессе. Я сказал — нет. Пытался заходить мягко: “замечаешь, что мы к этому возвращаемся?” Он говорил: “да, видимо, еще не проработано”. Это было ловко, звучало терапевтично, но не двигалось вовсе.
Супервизор спросил: "что удерживает тебя от прямого вопроса?"
Я замолчал. Потому что ответ был не в словах. Он был в ощущении. Казалось, будто я боюсь нарушить тонкую, идеально выстроенную конструкцию.
Я понимаю, что если задам вопрос: “зачем ты приходишь?” — он может растеряться. И тогда терапия закончится. А я останусь с ощущением, что это все было не работа, а имитация. Мне было выгодно сохранять эту терапию. Потому что она была тихой, структурной, аккуратной. Никаких скандалов, никакой переносной "каши", никаких эмоциональных качелей. Час в неделе, где все стабильно. Но не живо. Я начал обслуживать процесс. Не исследовать — поддерживать видимость. Стал частью его паттерна. Той самой “нормальности”, за которой он прятался всю жизнь. И если я не рискну — мы будем так сидеть еще год.
— Если ты чувствуешь, что вы оба перестали быть живыми, то это твоя ответственность вернуть правду в комнату. Даже если она будет некомфортной. Даже если после нее кто-то уйдет.
Супервизор не сказал, что я что-то делаю не так. Он не предложил решений. Он просто поставил зеркало. Я вышел из сессии и понял, что вопрос уже дозрел. И что теперь не спросить — будет предательством. Не клиента. Себя.
Нарушенный сценарий
Я начал сессию с Игорем так же, как всегда. Тихо, спокойно, без спешки. Он спросил, как у меня дела — вежливо, без лишнего интереса. И мы начали. Он говорил про работу. Опять. Что задачи наваливаются. Что сложно просить помощи. Что “я вроде справляюсь, но в голове шум”. Все то же. Абсолютно. Я слушал, но уже по-другому.
И где-то на десятой минуте почувствовал — пора.
— Я хочу задать тебе, возможно, неудобный вопрос.
Пауза. Он смотрит. Ждет. Я продолжаю:
— Как ты сам понимаешь, что тебе сейчас дает эта терапия?
Игорь чуть напрягся.
— Ну… я начал лучше отслеживать свои состояния. Иногда замечаю, когда ухожу в автоматизм. Стал чуть внимательнее к себе.
— Ты это уже говорил. И я рад, что это есть. Но что сейчас, спустя почти год, что тебя заставляет каждую неделю приходить сюда?
Он смотрел вбок. Долго. И потом сказал:
— Наверное… не знаю. Это уже как привычка. Я вроде не думаю, что “мне нужно”, но и не думаю, что “пора заканчивать”.
Игорь произнес это без эмоций. Но в комнате что-то дрогнуло. Потому что это был первый раз, когда он не пытался сыграть “правильного клиента”. Он не знал. И сказал, что не знает.
— Иногда я думаю, что просто стало легче, потому что появилась какая-то точка… не знаю, устойчивости. Типа якорь.
На сессии впервые прозвучало то, что мы оба уже давно подозревали: наша терапия — якорь. Не путь. Не движение. Якорь. Я не стал его толкать. Не предложил “ну давай тогда завершать, если не двигается”. Наоборот — я замолчал. И в этом молчании — он начал думать. Игорь стал медленно, вслух, разбирать почему не хочет уходить. Что боится остаться без этого часа. Что иногда сессия — единственное место, где он не должен быть “продуктивным”. Что есть странное ощущение, будто если он уйдет — ничего не останется. Он говорил про страх пустоты. Про невозможность быть один на один с собой. Про то, что у него всегда должен быть кто-то рядом — не близко, но на связи.
— Я не уверен, что хочу что-то менять. Я просто не хочу развалиться.
Он ходил не за ростом. Не за инсайтами. Он ходил — чтобы не рассыпаться. И только сейчас, когда я нарушил сценарий, он смог это сказать. Сессия закончилась тихо. Без эпилога. Без “нового плана”. А я остался. С ощущением, что мы только начали. Не в плане терапии. В плане настоящей работы. Где нет нужды быть “хорошим терапевтом” и “удобным клиентом”. Где есть место паузе, растерянности, пустоте. Где наконец не приходится делать вид.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.
















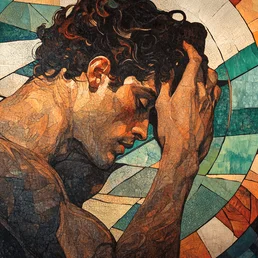
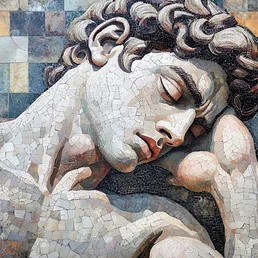








Комментарии
Ваш комментарий будет первым!