МакГаффин Хичкока, монолит Кубрика, чемоданчик Тарантино и другие символические объекты в кино
Опубликовано в «Киноанализ»
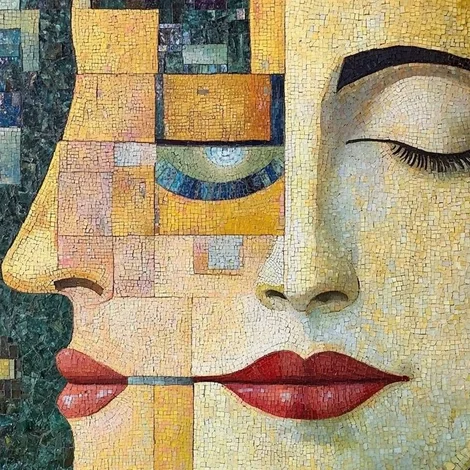
Благодаря работам Кристиана Метца, французского теоретика кино и киносемиотики, кино рассматривается как система знаков и символов, которую зритель расшифровывает на бессознательном уровне. Метц прямо отождествляет «работу фильма» с «работой сновидения»: фильм, как и сон, говорит на языке символов и желаний. Символы в кино структурируют восприятие и сюжет, это структурный элемент киноязыка.
Символы функционируют как носители скрытых или многослойных смыслов, выходящих за рамки буквального изображения. Таким образом, фильмы не просто рассказывают истории — они запускают в нашей психике бессознательные процессы, используя символические образы, архетипы и метафоры. Действуя на бессознательном уровне, символы в фильмах провоцируют желания, тревогу, травмы и проекцию зрителя. Особенно это заметно в авторском, экспериментальном и психологическом кино.
Давайте рассмотрим классические символические объекты, которые не просто запускают сюжет, но также структурируют символический порядок фильма. Первым делом вспоминается шахматная доска из «Седьмой печати» (1957) Ингмара Бергмана, которая символизирует инструмент диалога протагониста, рыцаря Антониуса Блока, со Смертью. Игра представляет собой метафору экзистенциального риска, где шахматы — это символический ритуал, структурирующий смыслы бытия.
В другом великом фильме, «Бегущем по лезвию» (1982) Ридли Скотта, таким объектом стало оригами в форме единорога — метафора мнимого выбора. Ключевой эпизод в финале фильма, когда герой Харрисона Форда находит у своей двери оригами, оставленное его коллегой-полицейским, дает зрителям понять, что сновидение Декарда о единороге не является личным воспоминанием, оно искуственно встроено в его память. Классический символ недостижимого идеала, в мифологии единорог символизирует чистоту и уникальность. В то время как оригами мифического единорога в контексте фильма является символом разоблачения искусственной памяти и идентичности.

Игра представляет метафору экзистенциального риска, где шахматы — символический ритуал, структурирующий смыслы бытия
В «Перекрестке Миллера» (1991) братьев Коэн шляпа, которую носит персонаж Гэбриэла Бирна — фетишистский атрибут его публичного «Я», выполняет сразу несколько символических функций. Это знак власти и статуса внутри криминальной иерархии, который символизирует способность контролировать ход событий, и в то же время «зеркало» бессознательного Тома Ригана. Так что когда он снимает шляпу, это предшествует моментам сомнений и уязвимости, а потеря статусного головного убора, как во время сцены погони за Берни Бернбаумом (Джон Туртурро), указывает на глубокий кризис протагониста.
Особенно показательна сцена сна Ригана (и снова сновидение!), в котором шляпу уносит ветром через лесной перекресток, давший название фильму. По Жаку Лакану этот сон означает, что бессознательное выводит Ригана из-под власти символического порядка (в данном случае, власти мафии и статуса Ригана в криминальном мире) и ставит на пороге выбора, символизируемого перекрестком. Риган теряет привычную маску и обязан столкнуться с собственной уязвимостью.
Итак, символические объекты служат опорой для восприятия сюжета и помогают зрителю организовать значения, но в то же время их содержание может оставаться скрытым для зрителя. Это создает эффект «пустого означающего», когда зритель проецирует на символ собственное желание. «Пустое означающее — это та структурная пустота, вокруг которой организуется желание субъекта и социального поля», — пишет Славой Жижек, к чьему наследию мы уже не раз обращались.
В лакановской интерпретации это классический механизм поддержания желания через нехватку. Любой символ, лишенный фиксированного значения, становится контейнером для желания. Зритель и персонажи наделяют эти объекты смыслом, но их содержание остается недосказанным. Так мы подходим к одному из самых парадоксальнх символических объектов в кино — так называемому МакГаффину (MacGuffin).
Термин МакГаффин придумал шотландский сценарист Ангус МакФейл, сотрудничавший с великим режиссером Альфредом Хичкоком до начала шестидесятых годов — фильм «Завороженный», в котором мы разбирали сцену сновидения, стал одной из последних совместных работ двух мастеров. Конечно же, идея объекта-загадки, запускающего механизм сюжета, существовала еще до того, как Хичкок стал активно использовать ее в своей работе. А впервые сам термин был озвучен самим Хичкоком в знаменитой книге «Хичкок/Трюффо», и с тех пор неразрывно ассоциируется с его творческим методом.
Вот как режиссер объяснил его значение: «Это шотландская фамилия, взятая из байки про двух мужчин в поезде. Один говорит: «Что там завернутое лежит на верхней полке?» Второй отвечает: «А, это макгаффин». — «А что такое МакГаффин?» — «Ну, это такой аппарат для ловли львов в Северо-Шотландском нагорье» — «Но в Северо-Шотландском нагорье нет львов!» — «Ну, значит это не МакГаффин!». Получается, что МакГаффин на самом деле — то, чего вообще нет».
По его словами, МакГаффин «заставляет всех персонажей действовать, но для зрителя сам по себе не имеет значения». То есть чем абстрактнее этот символический объект, тем лучше для истории — и это притом, что сам Хичкок тщательно прорабатывал характеры всех своих персонажей, вплоть до подробной биографии героя.
Академические источники и киноведы сходятся во мнении, что первым полноценным примером МакГаффина в фильмографии Хичкока считаются некие секретные документы, который шпионская сеть хочет вывезти из Британии в «39 ступенях» (1935). Содержание этих бумаг остается за кадром, зритель так и не узнает их сути, но весь сюжет строится вокруг этого абстрактного символического объекта. После «39 ступеней» МакГаффин становится повторяющимся структурным приемом в хичкоковских фильмах.

Тарантино до сих задают вопросы о содержимом чемоданчика
Например, в триллере «Веревка» (1948) МакГаффином становится сундук, в котором спрятано тело убитого, а сокрытие убийства становится центральным элементом истории, структурующим напряжение всего фильма. Таким образом МакГаффин «замещает» травматическое Реальное, которое нельзя было выразить напрямую: времена «старого доброго ультранасилия» в кино еще не наступили. А наиболее виртуозным примером применения МакГаффина считается классическое «Психо», где деньги, украденные героиней, исчезают после первого акта и больше не упоминаются, а сюжет переключается на совершенно другую историю.
Резюмируя сказанное, МакГаффин у Хичкока — это не только прием для завязки сюжета, но еще и психоаналитическая структура: он фиксирует пустоту желания, вызывает проекцию фантазии, активируя символическое восприятие зрителя, и заодно скрывает недосказанность Реального.
Среди МакГаффинов у других авторов кино можно вспомнить статуэтку из «Мальтийского сокола» (1941) Джона Хьюстона, иллюзорный артефакт, предмет погони, интриг и обмана. Финальная фраза героя Хэмфри Богарта, наконец-то завладевшего заветной статуэткой сокола, служит идеальным тэглайном для МакГаффина: «Вот из чего сделаны наши мечты». Другой классический пример — это загадочный черный монолит из «Космической Одиссеи» (1968) Стэнли Кубрика, символический объект, сопровождающий человечество на протяжение всей эволюции. Его значения пытаются интепретировать вот уже несколько поколений исследователей и фанатов, как будто забывших «золотое правило МакГаффина»: чем он абстрактнее, тем эффективнее творческий эффект от его использования в фильме.
Не менее интересный, чем у Кубрика, пример использования МакГаффина можно найти в творчестве Квентина Тарантино, этого великого интерпретатора массовой культуры. Он догадался, что МакГаффин может быть не только абстрактным, но и максимально зрелищным — чего, кстати говоря, избегал Хичкок. Это образец классического МакГаффина, доведенного до крайности (как, собственно, и жанр в интерпретации этого режиссера): объект абсолютно неопределен, тем самым становясь идеальной проекцией желания, как в лакановской модели. И эта неопределенность структурирует повествование, подчеркивая, что смысл — это всегда лакуна, вокруг которой разворачивается символический порядок.
Речь, конечно же, идет о чемоданчике с исходящим изнутри золотистым сиянием в «Криминальном чтиве», содержимое которого так и остается неизвестным зрителю. Но он вызывает почти мистическое трепетное отношение у персонажей, запуская сразу несколько сюжетных линий. Таким образомм один только предмет реквизита с несколькими мощными лампами и батареей внутри обеспечил режиссеру паблисити на протяжение всей карьеры: кажется, Тарантино до сих задают вопросы о содержимом чемоданчика. Умненький Тарантино никогда не раскрывал тайны, что только подчеркивает: отсутствие знания о символическом объекте является ключевым элементом символического восприятия.
Отдельно стоит упомянуть нарушения символического восприятия в киноязыке. Режиссеры, показывающие психоз или травму, часто используют деформированное символическое пространство. Например, разрушают традиционный нарратив, нарушают пространственно-временную логику, напрямую смешивая Реальное и Символическое.
Классический пример такого кино — поздние фильмы Дэвида Линча «Потерянное шоссе» (1997) и «Малхолланд Драйв» (2001), которые много и с интересом анализировал Жижек. Но это отдельная тема для анализа, к которой мы непременно еще вернемся.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.

















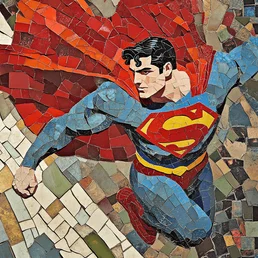




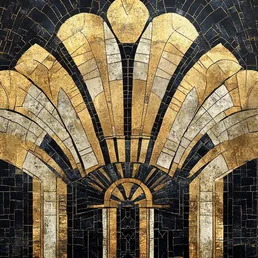



Комментарии
Ваш комментарий будет первым!