Ветеринарный уход: когда забота становится ловушкой
Опубликовано в «Метод»

Эпиграф
«Мама, я замёрз?» — «Нет, ты хочешь кушать»
— анекдот
В жизни, а потом и в терапии мы можем столкнуться с заботой, которая, казалось бы, должна помогать, но вместо этого делает человека слабее, лишает воли, ставит в зависимость. Этот феномен в психоанализе обозначают как «ветеринарный уход» — метафора, скрывающая за собой глубокие психологические и психоаналитические процессы.
Что такое «ветеринарный уход»
Термин «ветеринарный уход» не является академическим и не закреплён в психоаналитических или диагностических системах. Он возник в профессиональной среде как образная метафора, описывающая гиперопекающее поведение, при котором другой человек воспринимается не как равный субъект, а как беспомощное существо, неспособное на самостоятельное действие. Подобная формулировка используется в терапевтических кругах, иногда — с лёгкой иронией, но по сути отражает важную психологическую ловушку: когда забота превращается в способ контроля, а не в поддержку роста. Сегодня этот термин всё чаще применяется в описании как семейных, так и терапевтических отношений, особенно в контексте обсуждения границ, созависимости и нарциссической динамики.
Итак, “ветеринарный уход” это забота, в которой другой не воспринимается как равный субъект с волей, желаниями и внутренней реальностью. Он скорее переживается как нечто беспомощное — как питомец, нуждающийся в опеке. За животное, которое не может сообщить, чего хочет, всё решает другой.
В результате вместо диалога — интерпретация. Вместо поддержки — подмена. Вместо развития — зависимость.
Психоаналитический контекст
Такой тип заботы нарушает принцип субъект–субъектных отношений. В работах Винникотта, Биона, а также в юнгианской традиции подчёркивается важность контейнирования и признания другого как носителя собственной внутренней жизни.
Когда этого признания нет — есть паттерн контроля под видом любви.
Часто такая забота имеет нарциссическую основу. Это способ почувствовать себя нужным, сильным, «более здоровым» — и тем самым укрепить уязвленное или хрупкое «Я». Как писал Отто Кернберг: «Желание спасти другого может быть формой нарциссического расширения собственного Я за счёт другого».
Человек, ухаживающий за другим в режиме «я всё за тебя решу», неосознанно использует другого как сцену, на которой он играет роль доброго, всесильного спасителя.
Когда забота становится формой зависимости
Гиперопекающая мать и дочь, потерявшая себя. Женщина 35 лет приходит на терапию с чувством хронической неудовлетворённости и фразой: «Жизнь как будто не моя. Проходит мимо». За этим — жалоба на обстоятельства, на судьбу, на несправедливость. Но в терапевтическом процессе выясняется, что с детства все значимые выборы делались за неё — заботливой и всепроникающей матерью: «Это тебе не подойдёт», «С этим ты не справишься», «С таким мужчиной ты не будешь счастлива».
Мать искренне верила, что защищает дочь и делает лучше. Но, принимая решения за нее, она лишила девушку способности делать выборы, совершать ошибки, проживать их последствия, исправлять, делать выводы, и через это расти. А вместе с тем и ощущать вкус жизни. Дочь никогда не училась слышать себя, и потому взрослая жизнь воспринимается как чужая и непослушная — будто за неё кто-то рулит, а она не знает, где у неё собственная система управления.
Нарциссическое расширение в виде ветеринарного ухода встречается и в партнёрских отношениях. Как правило, они заканчиваются разрывам. Вот два примера, симметричных по динамике, но с разным распределением ролей.
Мужчина и зависимая женщина: нарциссическое расширение через заботу. Алексей, 42 года, успешный предприниматель, уже не в первых отношениях сталкивается с одним и тем же сценарием. Он встречает женщину, находящуюся в кризисе — с долгами, болезненным разводом, проблемами со здоровьем, часто без устойчивой профессии. Он буквально «подбирает» её: помогает материально, организует лечение, оплачивает, предлагает переехать к нему. Сначала это даёт ему чувство силы, значимости, миссии. Он получает удовольствие от своей роли. Но постепенно начинает раздражаться: партнёрша, по его мнению, не проявляет активности, не «восстанавливается» так быстро, как он ожидал. Он чувствует себя обманутым, истощённым и неоценённым.
Женщина теряет контакт со своими желаниями — все решения принимаются за неё, от одежды до врача. Её слабость подкрепляется заботой, и внутренне она чувствует: «тебя любят, пока ты нуждаешься». Попытка проявить самостоятельность вызывает напряжение или скрытую агрессию со стороны Алексея. Отношения заканчиваются разрывом: он — с чувством, что снова «вложился в недостойную», она — с ощущением утраты себя и ещё большей неуверенностью.
Женщина и зависимый мужчина: «спасательство» как форма контроля. Ирина, 37 лет, педагог встречает мужчину с алкогольной зависимостью он часто меняет работу, у него сложные отношения с семьёй. Она чувствует к нему «глубокую эмпатию», говорит, что видит в нём скрытый потенциал и начинает восстанавливать его шаг за шагом: водит к специалистам, помогает с поиском работы, берёт на себя большую часть быта и ответственности.
Он сначала принимает помощь с благодарностью, но со временем начинает сопротивляться — саботирует договорённости, срывает встречи, злоупотребляет её доверием. Она же наращивает уход: как будто чем хуже, тем больше надо помочь. По сути, за её любовью стоит нарциссическое желание быть «единственной, кто справится», «той, кто вытащит». Но вместо близости формируется симбиоз: мужчина всё глубже уходит в регрессию, женщина — в материнскую гиперответственность.
Отношения заканчиваются, когда он внезапно уходит — к другой, «более лёгкой» женщине, а Ирина остаётся в ярости и чувстве тотального обесценивания: «Я отдала всё, а он предал». На терапии она впервые сталкивается с мыслью, что любовь — это не всегда спасение, и что её забота была формой контроля.
Это примеры того, как ветеринарный уход, замаскированный под любовь и поддержку, становится полем для нарциссической динамики: другой превращается в экран для подтверждения собственной значимости, теряет субъектность. И в обоих случаях итог — выгорание, разрыв и ощущение потери себя.
Чем оборачивается такая забота
Последствия «ветеринарного ухода» зачастую парадоксальны: вместо устойчивости человек испытывает тревогу, вместо признательности — растущую злость, вместо благодарности — бессознательный протест. Он чувствует, что его как будто любят, но при этом не видят. Он вроде бы окружён вниманием, но всё глубже погружается в зависимость. Внутренне он не взрослеет, не принимает решений, не ошибается и не учится. Его субъектность как будто растворяется — в гиперзаботе, в родительской тревоге, в чужом знании о том, «что для него лучше». А ухаживающий постепенно испытывает раздражение, усталость, иногда обесценивает объект своей заботы — ведь тот не становится сильнее, как бы он ни старался. Всё это — логичный итог отношений, в которых забота становится не мостом к автономии, а формой скрытого контроля.
Как с этим работать психологу
В терапии работа с последствиями «ветеринарного ухода» начинается с восстановления субъектности. Это тонкий, поэтапный процесс, в котором важно помочь клиенту научиться ощущать свои желания, отличать их от внешних ожиданий, развивать способность к выбору и присваивать себе даже малые проявления инициативы.
Можно использовать техники фокусирования, работать с телесными ощущениями, задавать вопросы о предпочтениях и чувствах: «А что тебе сейчас действительно хочется?», «Это точно твой выбор или реакция на чью-то оценку?».
Также полезна символическая работа — с метафорами, сновидениями, образами, где клиент может «настроить компас» на внутренние координаты.
На более продвинутом этапе вводятся действия: маленькие, рискованные, автономные — чтобы вернуть себе чувство влияния на свою жизнь. Психолог не ведёт за руку, но сопровождает: наблюдает, возвращает ответственность, бережно удерживает границы, чтобы клиент мог ощутить себя субъектом, который действует, выбирает и ошибается – тестирует реальность.
Когда ошибку совершает психотерапевт

Приходит ветеринар к врачу. Врач: — На что жалуетесь? Ветеринар: — Нет, ну так каждый сможет!
Ветеринарный уход может проявиться не только в родительстве или партнёрстве, но и в терапевтическом кабинете. Особенно если клиент находится в регрессивном состоянии или демонстрирует беспомощность, у терапевта может активироваться бессознательное желание «починить», «облегчить», «решить за него». Это контрпереносная ловушка, в которую попадают даже опытные специалисты. Вместо сопровождения начинается тихое спасательство. Вместо работы с бессознательным — корректировка внешнего поведения. Вместо обретения субъектности — закрепление зависимости от «знающего» и «заботливого» профессионала.
Такой подход не только тормозит процесс, но и разрушает терапевтические границы. Клиенту не дают вырасти. Он не встречается со своей тревогой, не рискует, не исследует глубину — он обслуживается. А терапия превращается в ту же самую метафорическую ветклинику, где клиент не может проявить свою субъектность.
Забота — мощный инструмент. Но когда она становится способом управлять, доказывать свою значимость или избегать собственных чувств, она перестаёт быть поддержкой и превращается в форму скрытого насилия. Подлинная забота — не в том, чтобы решить за другого, а в том, чтобы быть рядом, когда он учится решать сам.
А чтобы это стало возможно, мы — родители, партнёры, психологи — должны быть готовы выдержать: другого, непохожего, ошибающегося, тревожного. То есть настоящего. Субъекта.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.





















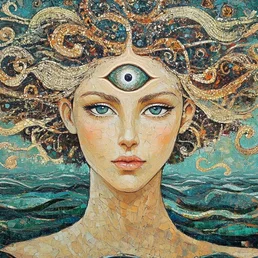


Комментарии
Ваш комментарий будет первым!