Джеймс Холлис о тревоге, призвании и мужской зрелости
Опубликовано в «Метод»

Расскажите, пожалуйста, из какой вы семьи и чем занимались ваши родители?
Я родился 17 мая 1940 года в Спрингфилде, штат Иллинойс — городе, который называют родиной Авраама Линкольна. Мои родители жили скромно и каждый день боролись за то, чтобы в доме была еда. Отец работал на заводе, где производили сельскохозяйственную технику, и проработал там всю жизнь. Мама была секретарем в Департаменте охраны психического здоровья штата Иллинойс. Образование у них было минимальным: мама окончила старшую школу, а папа — только начальную. Они были честными, трудолюбивыми людьми, но не представляли себе иной жизни, в которой можно было бы думать о чём-то большем, чем очередная оплата счетов в конце месяца.
Кто оказал на вас наибольшее влияние в детстве? И почему?
Думаю, наибольшее влияние на меня оказала мать. Она постоянно была тревожной, её всё время что-то беспокоило. Ещё совсем маленьким я почувствовал: моё главное предназначение - это как-то её утешить, облегчить её состояние, хотя бы ненадолго отвлечь от страхов. Возможно, именно тогда зародилось то, что позже я назвал своим призванием — быть рядом с человеком в его тревоге.
В какой культурной и эмоциональной атмосфере вы росли? Как вы воспринимали это тогда и как воспринимаете сейчас — уже как аналитик?
Я чувствовал себя в безопасности, но ощущение глобальной угрозы было повсюду. Вторая мировая война оставила свой след: даже в раннем детстве я уже знал, что мир небезопасен и где-то за пределами моего дома люди страдают. И тогда же возникло это тихое, но настойчивое чувство: я должен что-то сделать, чем-то помочь.
Как на вас повлияла школьная жизнь? Были ли учителя, которые пробудили интерес к внутреннему миру, к поиску смысла?
Мне кажется, что вся моя жизнь так или иначе была посвящена обучению, и началось это ещё тогда, когда я с восхищением смотрел на своих учителей. Для меня они были настоящими героями. Я знал: то, что они дают, это ключ к чему-то большему, к жизни, которая выходит за пределы повседневности, за пределы мыслей о ежемесячных счетах. В каком-то смысле именно они стали противовесом отчаянию и беспомощности — той внутренней опорой, которая помогает не потерять смысл.

Я никогда не терял веру в силу аналитической психологии, в тот дар, который она дает человеку
В книге «Под тенью Сатурна» вы пишете о переживании «эмоционального сиротства», характерном для многих мужчин вашего поколения. Что это значит лично для вас? Можно ли считать это предпосылкой к аналитическому пути?
Мой отец считал своим долгом обеспечивать семью. От него я унаследовал трудовую этику, дисциплину и умение игнорировать собственные эмоциональные потребности. Но именно эта способность - молчаливое эмоциональное самоудаление, со временем стала вызовом, с которым мне пришлось столкнуться в середине жизни.
Вы изучали гуманитарные науки в Манчестерском университете. Почему выбрали именно литературу?
Я учился в небольшом гуманитарном колледже — Манчестер-колледже, который позже стал университетом. Там было всего около тысячи студентов — спокойное, сосредоточенное сообщество. И именно там моими первыми настоящими ориентирами стали преподаватели. Они не просто учили меня — они видели меня. Говорили, что у меня светлый ум, что я умею мыслить и не имею права растратить этот дар. Их слова и вера в меня придали литературе смысл, который выходил далеко за пределы текста.
В какой момент вы почувствовали, что психология — это не просто академическая карьера? Была ли внутренняя драма, которая подтолкнула к смене направления?
Сначала я получил докторскую степень по литературе и философии в Университете Дрю (Drew University) и несколько лет преподавал гуманитарные дисциплины. Но где-то в середине тридцатилетия меня накрыла глубокая депрессия. Именно она привела меня на первые сеансы анализа в Филадельфии, а затем - к переобучению в Цюрихе, где я учился с 1977 по 1982 год.
Кто был для вас авторитетом в годы учёбы? Какие идеи произвели наибольшее впечатление?
Философски на меня повлияли Кант, Кьеркегор и экзистенциалисты — Хайдеггер, Сартр и Камю. Позднее этот горизонт значительно расширился, когда я познакомился с масштабным наследием Карла Юнга и аналитической психологией.
Как вы пришли к аналитической психологии и именно к юнгианскому подходу?
Как учёный, я прежде всего ценил Юнга за его глубокое понимание символов и внимание к духовному измерению человеческой жизни. Но только после прохождения собственного анализа эти идеи обрели для меня личную значимость. С тех пор, уже более полувека, я посвящаю себя юнгианскому образованию — потому что хочу и по-прежнему стремлюсь делиться тем, что действительно помогло мне самому.
Как проходила ваша личная терапия? Насколько важной она была для становления вас как аналитика?
Для юнгианцев ядром профессионального становления является не столько академическое обучение, сколько личный анализ — это долгий и честный путь к самому себе. А уже потом — практика с клиентами под внимательным супервизорским сопровождением.
В то время я работал с двумя аналитиками, очень разными по темпераменту и стилю. Один был аполлоническим: сдержанным, интеллектуальным, склонным к рефлексии. Второй — дионисийским: экспрессивным, страстным, мгновенно погружавшимся в глубину. Оба были мне близки, потому что отзывались на разные полюса моей внутренней природы.
В одном из интервью вы сказали: «настоящая жизнь начинается с кризиса». Был ли в вашей биографии такой переломный момент, который изменил всё?
На четвёртом году обучения в Институте Юнга, когда за плечами уже были серьёзные интеллектуальные и финансовые решения в пользу жизни в Швейцарии, мне приснился ещё один сон. Впервые в нём проявились темы, затрагивающие саму суть моего внутреннего мира и истоки той давней депрессии. Именно тогда, как я понимаю теперь, всё окончательно изменилось: то, что раньше существовало только в голове, стало живым, глубоко личным переживанием сердца.
Какой была ваша первая работа в психологии? Что она вам дала?
После возвращения из Цюриха я ещё почти четыре года оставался в академической среде, постепенно выстраивая собственную терапевтическую практику. С каждым публичным выступлением появлялись новые клиенты — кто-то из слушателей неизменно обращался за помощью. И в какой-то момент я понял: могу оставить надёжную должность профессора гуманитарных наук и пойти своим путём как практикующий аналитик.
Какие образы, техники или подходы вы чаще всего используете в глубинной работе с клиентами? Что, по-вашему, наиболее эффективно в терапии?
Мой подход основан на глубоком слушании и диалоге, в котором я задаю вопросы, открывающие путь к внутреннему миру человека. И, конечно, в центре аналитической психологии — работа со снами, которым мы придаём особое значение.
Вы написали 20 книг. Что впервые побудило вас писать?
Писать мне хотелось всегда. Я воспринимаю это как естественное продолжение стремления учить. Мои двадцать книг — это своего рода передвижные аудитории, которые, к моему удивлению, побывали почти в каждом уголке мира.
Какую из своих книг вы считаете самой личной, самой важной и почему именно её?
Книга What Matters Most — одна из самых личных для меня. Как, впрочем, и самая новая — Living with Borrowed Dust. А Tracking the Gods — это переработанная и обновлённая версия моей дипломной работы в Институте Юнга. Сначала мой стиль, наверное, был чересчур академичным, но со временем я понял: лучше всего говорить просто и прямо о том, что действительно имеет значение.
Что питает ваше писательство — сны, образы, работа с клиентами, философия?
Я пишу, чтобы лучше понять себя: прояснить собственные мысли, чувства и мотивы. В этом процессе сочетаются наблюдение и обучение, но вместе с тем это способ прояснить внутреннее и открыть что-то новое о себе. Иногда мне кажется, что я уже всё написал и писать больше не буду, но психика снова и снова подталкивает вперёд. Я научился, порой с болью, жертвовать отдыхом и удовольствиями ради того, чтобы услышать этот внутренний голос — и откликнуться. И снова писать.
Как вы работаете с текстом — интуитивно или дисциплинированно? Есть ли у вас собственные “ритуалы” письма?
В течение дня я работаю с клиентами, а писать сажусь только вечером, после ужина. Это требует дисциплины, внутренней сосредоточенности и верности делу, которому нельзя изменить, даже если устал.
Книга «Под тенью Сатурна» продолжает вызывать глубокий отклик. Какие её идеи, на ваш взгляд, приобрели новое значение или глубину в современном контексте?
Сегодня всё больше мужчин чувствуют растерянность: старые модели мужественности утратили актуальность, а новые ещё не оформились. Современное «героическое путешествие» — это уже не покорение внешних вершин, а смелое погружение в собственную внутреннюю глубину. И это путешествие, одновременно, сложнее и неизмеримо важнее.
Вы говорите о девяти «теневых» аспектах мужской психики. Какой из них, по вашему опыту, чаще всего проявляется в современной терапии?
Чаще всего человек рационализирует свои реакции, продиктованные страхом, вместо того чтобы спросить себя: откуда они берутся? А затем — найти в себе смелость их изменить. Отрицание и рационализация по-прежнему остаются нашими первыми защитными механизмами.
Как мужчины реагируют на эту книгу? Были ли отзывы, которые особенно вас тронули?
Меня глубоко тронуло и одновременно удивило, сколько мужчин из самых разных уголков мира написали мне одно и то же: "Я всегда думал, что со мной что-то не так, что я какой-то не такой. И только прочитав эту книгу, понял, что мои чувства и переживания — нормальны, и что многие мужчины проходят через то же самое". Именно этот "заговор молчания" я и пытался нарушить в книге. Глубоко укоренившееся табу на искренность, которое мешает мужчинам признавать свои чувства и находить общность в уязвимости.
Вы часто говорите о зрелости как о способности жить в согласии с собой. Что для вас значит быть зрелым мужчиной?
Прежде всего, я считаю важным научиться ответственности. Ответственности перед своим внутренним призванием, тем, кем ты действительно являешься. Ответственности за свои поступки и за то, как они влияют на других и на твою собственную жизнь. И главное — иметь мужество сделать шаг навстречу той жизни, о которой втайне мечтаешь, даже если путь к ней полон риска и неопределённости.
К чему вы сегодня стремитесь больше всего — не как аналитик, а как человек?
Больше всего я хочу мира — подлинного, глубокого, между странами и внутри каждого из нас. Я верю, что мир станет лучше, когда каждый из нас признает: то, что не так в мире, нередко отражает то, что не так внутри нас самих. Если начать с себя, со своего внутреннего пространства, перемены непременно произойдут и вовне. Как сказал Вольтер в «Кандиде»: «Мы должны возделывать свой собственный сад».
Были ли в вашей практике периоды, когда вы теряли веру в аналитическую работу? Как вы справлялись с собственными кризисами?
Я никогда не терял веру в силу аналитической психологии, в тот дар, который она даёт человеку. Конечно, невозможно помочь абсолютно каждому. Я нередко чувствую усталость от масштабов человеческого страдания и от собственной ответственности откликаться на него. Это глубокое внутреннее обязательство не всегда легко выдержать, но именно оно удерживает меня на этом пути.
Как вы оцениваете состояние юнгианской традиции сегодня? С какими вызовами сталкивается аналитик в XXI веке?
Юнга ещё предстоит по-настоящему открыть этому поколению. В эпоху, когда внешние ориентиры рушатся, мифы и символы утрачивают силу, а сообщество уже не поддерживает, как это когда-то делало племя, нам как никогда нужен внутренний компас. Как писала американская поэтесса Эмили Дикинсон: «Моряк не видит Севера, но знает, что стрелка укажет». Всем нам нужна эта внутренняя «стрелка», которая ведёт сквозь хаос к самому себе.
Что бы вы сказали молодым специалистам, которые только начинают свой путь в аналитической психологии?
Сердцем подготовки, как и прежде, остаётся глубокий и продолжительный собственный анализ. К нему добавляется регулярная супервизия и, самое главное, постоянная внутренняя работа: мы должны снова и снова спрашивать себя: «Откуда это во мне?» и «Чему это служит в моей жизни?» Многие наши привычки и модели поведения рождаются не из осознанности, а из страха или из историй, которые мы сочинили ещё в детстве, чтобы выжить, вписаться, быть принятыми. Мы бы никогда не посадили за руль автомобиля восьмилетнего ребёнка, но ежедневно позволяем этому внутреннему ребёнку с ограниченным мировоззрением управлять нашей жизнью.
Психика всё время говорит с нами. И мы должны быть достаточно внимательными, чтобы её услышать, достаточно смиренными, чтобы прислушаться, и достаточно смелыми, чтобы жить в согласии с её глубинными импульсами во внешнем мире.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.






















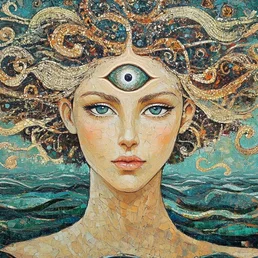


Комментарии
Ваш комментарий будет первым!