Нарциссизм в терапии: Кохут и Кернберг
Опубликовано в «Метод»

Августовский номер посвящен теме нарциссов — одной из самых сложных и многогранных в психотерапии. И начинаем мы с материала о двух ключевых подходах к работе с нарциссической личностью.
Нарциссическая личность остаётся одной из самых трудных тем в психотерапии. Такие пациенты вызывают у терапевта противоречивые чувства: сочувствие к их уязвимости, раздражение от требований, усталость от постоянных колебаний между идеализацией и обесцениванием. Долгое время нарциссизм воспринимался как «неанализируемый» материал, тупик для терапии. Однако во второй половине XX века Хайнц Кохут и Отто Кернберг предложили разные объяснения этого феномена и противоположные стратегии. Их условная полемика превратилась в одну из ключевых дискуссий психоанализа, а современным терапевтам дала два направления, между которыми они балансируют.
Кохут: «долюбить» через эмпатию
Кохут вошёл в историю как автор концепции самости. Его книги The Analysis of the Self (1971) и The Restoration of the Self (1977) показали, что работа с нарциссизмом возможна. Он увидел в грандиозности и обесценивании не просто защиту, а след ранней травмы.
По Кохуту, формирование целостной самости требует двух условий: отзеркаливания — отклика взрослого на радость и спонтанность ребёнка, и идеализации — возможности видеть в значимом другом источник силы. Когда эти процессы нарушены, появляется пустота, которую приходится заполнять грандиозными фантазиями.
Традиционный анализ воспринимал таких пациентов как «неудобных»: они не выдерживали интерпретаций и прерывали терапию. Кохут же показал, что именно в этих проявлениях скрыт ключ к пониманию. «Самость распадается там, где нет поддерживающего отзеркаливания», — писал он. Нарциссический пациент ищет в терапевте фигуру, способную временно восполнить дефицит.
Эмпатия в его подходе — не техника, а способ присутствия. «Эмпатия, — подчёркивал Кохут, — не является техническим приёмом. Она — наше средство постижения внутреннего мира пациента». Психолог должен не разрушать нарциссические фантазии, а отражать их и давать опыт принятия. Это не подыгрывание, а создание пространства, где возможно новое переживание собственной ценности.
Клинические описания Кохута полны примеров пациентов, чьи жалобы вращались вокруг чувства пустоты. Он отмечал: раздражённый или нетерпеливый терапевт рискует повторить травму. В одном из случаев Кохут работал с мужчиной, которого он описывал как «внешне успешного, но внутренне истощённого». Пациент постоянно требовал подтверждения собственной значимости и срывался, если терапевт оставался нейтральным. Традиционный анализ воспринимал бы это как сопротивление, но Кохут интерпретировал иначе: это был сигнал о дефиците отзеркаливания. Постепенно, выдерживая его требования и откликаясь эмпатично, терапевт дал пациенту новый опыт признания, и интенсивность кризисов стала снижаться.
Суть подхода Кохута в том, чтобы «долюбить» пациента — через отношения, восполняющие недостающий опыт отзеркаливания и идеализации.
Кернберг: «вернуть в реальность»
Кернберг предложил иной взгляд. Его книга Borderline Conditions and Pathological Narcissism (1975) определила понимание нарциссической личности на десятилетия. Для него нарциссизм — не дефицит, а особая организация на пограничном уровне, основанная на расщеплении противоположных образов.
«Грандиозное Я, — писал Кернберг, — представляет собой конгломерат расщеплённых и несвязанных между собой идеализированных и обесцененных образов самого себя и объектов». Пациент может возносить терапевта до всемогущества и тут же лишать его всякой ценности. Эти колебания отражают неспособность интегрировать противоречивые представления. За ними стоят агрессия и зависть.
Задача терапевта, по Кернбергу, — не поддерживать грандиозность, а возвращать пациента в реальность. Это означает конфронтировать идеализацию и разрушительные импульсы, показывать, что специалист не всемогущ, но и не никчёмен. В процессе пациент учится выдерживать амбивалентность и видеть в другом устойчивую фигуру.
В книге Severe Personality Disorders (1984) Кернберг отмечал: «Без прямой конфронтации с нарциссическими фантазиями терапия остаётся на поверхности». Попытка сгладить агрессию и зависть приводит лишь к застою.
Клинические примеры Кернберга демонстрируют резкую смену оценок. Один пациент, поначалу называвший его «единственным понимающим», вскоре обрушился с обвинениями: «Вы холодный и некомпетентный, как все остальные». Для Кернберга это был не тупик, а центральный материал анализа. Он отмечал, что задача терапевта — выдержать разрушительные импульсы и вернуть их в обсуждение. В этом случае постепенное исследование ненависти и зависти позволило пациенту впервые признать собственное чувство униженности, стоящее за агрессией.
Таким образом, его стратегия — возвращение пациента в реальность, где терапевт не является ни идеалом, ни пустотой. Новый опыт встречи с «третьим положением» между крайностями становится шагом к целостности.
Испытание контрпереносом
Нарциссические пациенты особенно интенсивно воздействуют на психотерапевта. Они вызывают желание помочь и одновременно чувство беспомощности, пробуждают восхищение и ярость. Работа с ними неизбежно включает мощный контрперенос.
Кохут считал важным выдерживать раздражение и усталость, не разрушая контакт. Требования пациента к постоянному подтверждению могут вызывать скуку, но именно здесь лежит доступ к его дефициту.
Кернберг, напротив, рассматривал интенсивные чувства терапевта как главный источник информации. Пациент, идеализируя, заставляет специалиста чувствовать всемогущество; обесценивая — унижение. Эти колебания нужно анализировать, превращая контрперенос в инструмент понимания.
Пример: пациент приходит с благодарностью и восторгом, а через неделю обрушивает поток критики. Терапевт испытывает соблазн ответить эмоционально, но именно способность выдержать эти крайности и интерпретировать их становится частью лечения.
Таким образом, у Кохута контрперенос требует эмпатии, у Кернберга — готовности встретить агрессию. В обоих случаях терапевт должен видеть в собственных чувствах часть процесса, а не личное поражение.
Как психотерапевты работают с нарциссизмом сегодня
Современные практики редко следует только одному подходу. На начальных этапах они ближе к Кохуту: создают безопасное пространство и дают опыт признания. Когда связь укрепляется, работа постепенно смещается к кернберговскому анализу агрессии и зависти. Пациент учится выдерживать противоречия и видеть в терапевте фигуру, не сводящуюся к крайностям.
Исследования подтверждают эффективность такой комбинации. Один из последователей Кернберга писал: «Эмпатия без конфронтации превращается в бесконечное отзеркаливание, а конфронтация без эмпатии — в новую травму».
Клиническая практика показывает: решающим становится умение терапевта удерживать обе позиции. Это требует внутренней устойчивости, личной терапии и супервизии.
В этом смысле диалог Кохута и Кернберга продолжается в кабинетах современных психологов. Первый напоминает о значении эмпатии и восполнения дефицита. Второй — о необходимости конфронтации и интеграции агрессии. Современный психотерапевт стоит между этими голосами, и именно в их напряжении рождается живая терапия.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.





















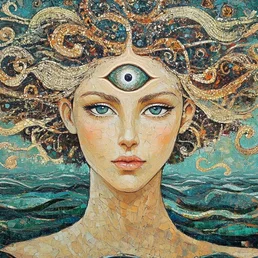


Комментарии
Ваш комментарий будет первым!