Откровенный разговор с Аной Милетич Герич о супервизии
Опубликовано в «Метод»
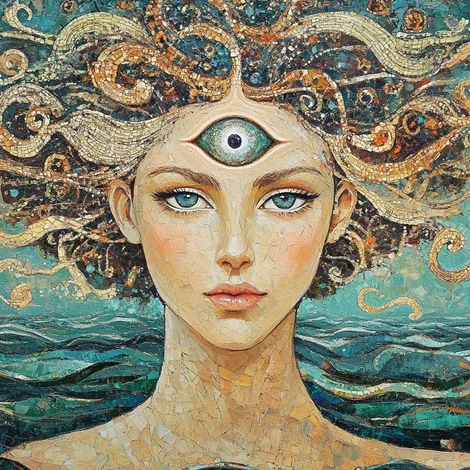
Что означает быть «достаточно хорошим» супервизором? Как не утратить ощущение внутренней опоры, работая с терапевтами, которые прикасаются к самому болезненному?
Об этом и многом другом — читайте в откровенном интервью с Аной Милетич Герич, психологом, сертифицированной международной интегративной психотерапевткой, супервизором под наставничеством в IIPA, преподавателем интегративной психотерапии
Ана, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к профессии супервизора?
В Международной ассоциации интегративной психотерапии (IIPA), где я сейчас повышаю квалификацию - перехожу от статуса сертифицированного психотерапевта к сертифицированному тренеру и супервизору, - обе эти роли предполагают прохождение общего, почти десятилетнего, учебного пути.
Когда я была маленькой, дедушка в шутку говорил, что мне стоит стать учительницей, потому что я такая строгая и всё знаю. Мне и правда нравилось рассказывать ему, как нужно себя вести и чего делать не стоит. Прошли годы, и однажды моя супервизорка вспомнила его слова, когда предложила мне стать тренеркой: «Ты сделана из правильного материала», - сказала она.
На тот момент моя частная практика была полностью загружена, все клиенты - долгосрочные, новые запросы приходилось отклонять. Я искала способ, как охватить больше людей, как поделиться тем, что умею и знаю. И тогда идея супервизорства стала для меня естественным выходом из профессионального кризиса: передавать опыт, поддерживать других терапевтов - и таким образом помогать ещё большему числу клиентов.

Мой главный супервизор открыл для меня мир безусловного принятия, свободный от осуждения
Вы — интегративный психотерапевт (IPSA, EAIP, IIPA). Что для вас значит быть интегративным психотерапевтом? Какие подходы внутри интегративной модели особенно близки вам?
Что для меня значит быть интегративным психотерапевтом? Сообщество IIPA объединяет специалистов, которые стремятся не просто овладеть профессией, а непрерывно развиваться в ней, совершенствуя и себя, и свою работу. Это стремление к глубине и мастерству — одна из ключевых моих ценностей. Оно побуждает меня становиться лучшей версией себя и одновременно сохранять скромность на этом пути.
Еще одна причина, по которой мне так близок интегративный подход — это уважение к уникальности каждого терапевта. Этот подход не просто позволяет, а даже поощряет формирование собственного стиля. Он признаёт: чтобы быть по-настоящему присутствующим в контакте с клиентом, терапевт имеет право и потребность быть собой, работать из всего своего «я»: из тела, эмоций, разума, личной истории.
Модель, в которой я работаю — это интегративная психотерапия, основанная на развитии и фокусе на отношениях. Она имеет собственную теоретическую базу и методологию и представляет собой целостный подход, а не механическую смесь техник из разных школ. Её эффективность основана прежде всего на создании отношений, обладающих терапевтической силой. В то же время эта модель выросла на основе объектных отношений в психоанализе, гештальт-терапии и транзактного анализа, и поэтому легко интегрирует в себя техники из других направлений: арт-терапии, EMDR, Brainspotting, соматического опыта, «Двигательной медицины», «5 ритмов» и многих других. Каждый специалист может выбирать те инструменты, которые наиболее соответствуют его стилю мышления и работы.
Этот подход позволяет гибко адаптировать методы под индивидуальные потребности клиента, потому что охватывает все уровни человеческого бытия: телесный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий, духовный. Но самое ценное для меня в этой модели — её способность приближать нас к экзистенциальному сердцевинному вопросу каждого клиента: «Как такому человеку, как я, жить в таком мире?»
Именно в попытке ответить на этот вопрос мы начинаем понимать, как сформировался способ контакта клиента с миром (в духе гештальта), в какие «игры» он играет (в терминах транзактного анализа), какие ранние выводы, решения, жизненный сценарий когда-то были им приняты. Мы видим его потребность в тех или иных защитных реакциях на травму и одновременно открываем путь к исцелению. В этом ответе — не только история боли, но и ключ к пониманию того, какие отношения нужны человеку, чтобы начать жить по-другому. И как мы можем создать эти отношения вместе.
Был ли в вашей жизни супервизор, который действительно много для вас значил?
Все мои супервизоры были для меня важны. Один показал, как НЕ стоит проводить супервизию — грубо высмеивая тех, кто не выучил материал наизусть. Другой научил быть полностью присутствующим в отношении с супервизантом, позволять себе профессиональную уязвимость и использовать её как инструмент взаимодействия.
А мой главный супервизор открыл для меня мир безусловного принятия, свободный от осуждения — мир, совсем не похожий на тот, к которому я привыкла в своей родной семье, и совершенно противоположный подходу моего первого личного терапевта, воспитанного в психоаналитической традиции и практиковавшего стыдящие конфронтации, которые лишь усиливали мой внутренний критицизм.
Именно этот безосуждающий взгляд — самая большая ценность сообщества, частью которого я сейчас являюсь. Здесь во мне видят не слабости, а потенциал. Здесь не критикуют и не пытаются мной управлять, а поддерживают в стремлении выйти за пределы собственных ограничений.
Рядом с моим основным супервизором была ещё одна — специалист по подростковой психотерапии, чья профессиональная философия оказалась для меня совершенно новой. Большую часть своей карьеры она работала с подростками с высоким риском самоубийства, и ни один из них не совершил суицид. Она никогда не использовала антисуицидальные контракты, потому что по собственному опыту знала: такая интервенция часто усиливает тревожность и, в конечном итоге, может повысить риск.
Она передала мне свою веру в подростков и научила, как с помощью методов индивидуальной психологии вернуть им надежду и желание жить.
Этот опыт — бесценен.
Какие вопросы чаще всего приносят психотерапевты на супервизию?
Когда я вспоминаю своих супервизантов и случаи, которые они приносят на сессии… В начале своего профессионального пути терапевты обычно рассказывают о всех клиентах, потому что чувствуют неуверенность в новой роли и нуждаются в поддержке на каждом шагу. Но с накоплением опыта характер супервизионных запросов меняется.
Прежде всего, они приносят ситуации, которые ставят под сомнение их понимание теории или метода, и тогда им нужна помощь, чтобы правильно осмыслить случай и спланировать терапевтическую работу. Речь идёт о развитии клинического мышления, которое формируется постепенно — вместе с опытом.
Другой тип запросов возникает тогда, когда терапевта глубоко затрагивает контрперенос — настолько, что появляется ощущение растерянности или даже профессиональной некомпетентности.
Маша Жвелц в своей книге «Интегративная психотерапия с ориентацией на майндфулнес и сострадание» (2021) описывает это как случаи, когда терапевт не может эффективно использовать физиологическую настройку. Он пытается синхронизироваться с клиентом, войти в резонанс с его опытом, чтобы лучше понять и поддержать — но вместо этого сам выходит за пределы собственного окна толерантности.
В такие моменты терапевт нуждается в супервизоре как во внешней точке опоры — чтобы идентифицировать, что именно произошло, и восстановить свою саморегуляцию. Иногда такую реакцию можно проработать прямо во время супервизионной сессии, особенно если она связана с личным опытом или давней травмой. В других случаях супервизия становится сигналом: это стоит вынести в пространство личной терапии.
Бывает ли так, что супервизия превращается в «поле сопротивления»? Как вы с этим работаете?
Пока что в моей практике такого не случалось. Возможно, мне удаётся создать достаточно безопасное пространство, в котором супервизанты могут оставаться открытыми и настроенными на сотрудничество. Но кто знает — спросите меня через десять лет.
Какие типичные ошибки совершают начинающие терапевты, и как вы помогаете им с этим справляться?
Начинающие терапевты часто бывают слишком мягкими, даже услужливыми по отношению к своим первым, таким «драгоценным» клиентам. Они позволяют отменять сессии без оплаты за пропущенные встречи, меняют согласованное время только потому, что так удобно клиенту. Их легко выбить из равновесия, и они склонны к самокритике, если не могут быстро дать клиенту то, чего тот ожидает.
Поэтому я помогаю им осознать собственные внутренние процессы, сделать паузу, выдохнуть, расслабиться и посмотреть на ситуацию с большего расстояния, а также найти твёрдую почву под ногами и научиться устанавливать границы.
Бывало ли, что вы чувствовали себя бессильной как супервизор? Как вы с этим справились? Возможно, вы расскажите конкретный случай? А также случай которым вы гордитесь.
Ощущение некоторого бессилия всегда присутствует. Во мне живёт нетерпеливая мечтательница, которая до сих пор верит в совершенный мир. И когда я вижу, насколько далеки вещи в этом мире от гармонии — это, конечно, вызывает во мне чувство бессилия.
В такие моменты я останавливаюсь, делаю глубокий вдох и напоминаю себе: нужно быть терпеливой, доверять процессу. Я говорю себе и своим супервизантам: наши клиенты жили до нас и будут жить после нас. У них есть внутренняя сила, даже если мы не всегда сразу можем её поддержать или активировать.
Из моего опыта, терпение и способность замедляться всегда приносят плоды. Я помогаю супервизантам обратить внимание на себя, найти внутреннюю опору, вернуть себе ощущение силы. Ведь супервизия — это не про то, чтобы решить все проблемы за одну встречу. Это про присутствие. Про контейнер, в котором постепенно, в своём ритме, разворачивается история клиента.
Что касается конкретного случая… Эти случаи часто похожи. Например: клиент с комплексным ПТСР, с глубокой болью и длительным страданием. Супервизант приходит на сессию, переполнен напряжением: ему кажется, что он должен немедленно принести облегчение. И когда это не удаётся, он начинает сомневаться в себе, чувствовать себя «плохим» терапевтом.
Я часто вижу, что в такие моменты супервизант резонирует с бессилием своего клиента и не может его контейнировать, потому что в нём самом что-то активируется. Как правило, это собственные болезненные воспоминания, выходящие за пределы его окна толерантности. Если нечто подобное происходит и со мной, мы оба оказываемся в очередном витке знакомого процесса.
Когда мне удаётся вовремя заметить, что происходит, мы обращаемся к телу: наблюдаем, насколько далеко супервизант вышел за пределы саморегуляции. Используем практики майндфулнеса, ресурсы, сострадание к себе — всё, что помогает вернуться «в себя».
И обычно уже после этого большинство супервизантов вспоминают, что именно они могут делать со своим клиентом. Иногда им всё ещё нужна моя помощь, чтобы спланировать следующие шаги — это тоже нормально. Каждый раз, когда мне удаётся вовремя распознать этот процесс и назвать его, мы вместе создаём содержательную супервизионную встречу. Ту, которой действительно стоит гордиться.
Какими личными качествами должен обладать хороший супервизор?
Помимо тех, которые необходимы хорошему терапевту, супервизору особенно важно иметь развитую способность к контейнированию — удерживанию пространства, процесса, эмоций. А ещё — ненасытное желание учиться.
Есть ли у вас любимый момент в супервизионном процессе — инсайт, пауза, тишина?
Один из таких моментов — из моего собственного опыта получения супервизии. Похожие истории я слышала и от своих супервизантов. Они особенно трогают меня, потому что я воспринимаю их как неожиданный дар, нечто, что происходит только в по-настоящему безопасном супервизионном пространстве.
Для меня это тот момент, когда супервизор, наблюдая за терапевтическим процессом, видит то, что до сих пор оставалось непроговоренным и непрожитым в самом терапевте.
Одно из самых сильных осознаний в моей практике произошло, когда я принесла на супервизию случай клиентки, пережившей сексуальное насилие. Она избегала этой темы, и я должна была помочь ей постепенно к ней приблизиться. Но я не могла. В процессе исследования я поняла: я боялась, что, слушая её историю, могу почувствовать возбуждение — и что клиентка это заметит. А за этим стоял более глубокий страх: страх быть пристыженной за любую уязвимость, которую я проявляла в детстве — будь то злость, страх или даже радость. Всё это было для меня причиной стыда.
Именно мой супервизор помог мне увидеть, что уязвимость — это не слабость, а ценность. Он научил, как быть рядом с ней, как её регулировать и как сделать её источником поддержки для клиента. И, возможно, самое важное — эта тема никогда не поднималась в моей личной терапии. Она проявилась только в отношении с клиентом и стала видимой лишь благодаря супервизии.
Какую роль, по вашему мнению, играет супервизия во времена войны, кризиса и социальной нестабильности?
Этот вопрос вызывает у меня глубокую грусть. Есть африканская пословица: когда дерутся слоны — страдает вся трава. Перед нами стоит задача — удержать и контейнировать необъятное количество человеческого страдания. Как я уже говорила в контексте бессилия, это страдание откликается волнами: от клиентов — к терапевтам, от терапевтов — к супервизорам, и дальше — к супервизорам супервизоров.
Это заставляет меня вспомнить статью Кэти Стил «Быть рядом с разбитой душой». Именно это — наш общий вызов. И роль супервизии, как я её вижу, — быть пространством, которое может вместить, выдержать и помочь переработать это страдание. Для всех, кто в нём задействован.
Какой совет вы бы дали терапевтам, которые ищут «своего» супервизора?
Как и в терапии, самое главное — встретить того, с кем возникает резонанс. Того, кто слышит тебя между строк, говорит на понятном тебе языке, и при этом обладает достаточной глубиной, чтобы стать настоящим наставником. Не спешите, будьте бережны к себе и прислушивайтесь к сердцу. Оно знает путь.
Что для вас сегодня значит быть «достаточно хорошим» супервизором?
Этот вопрос напоминает мне о враче традиционной китайской медицины, к которому я ходила в один из самых болезненных периодов моей жизни. Он был удивительно сострадательным и каждый день повторял ломаным английским: «Мы должны не просто делать. Мы должны делать хорошо для тебя, Ана».
Достаточно хороший супервизор — это тот, кто прежде всего заботится о том, чтобы терапевт не причинил вреда своим клиентам. Это своего рода фильтр, который помогает выявить потенциально вредную терапию. А ещё — это человек, который поддерживает достаточно, чтобы терапевт, выходя из супервизионной сессии, почувствовал облегчение и смог усвоить что-то новое: о методе, о себе или о внутреннем мире клиента.
Не каждая сессия будет блестящей. Мы не всегда можем превзойти самих себя или впечатлить других. Но мы можем быть достаточно хорошими — и это уже многое.
Как вы справляетесь с чувством ответственности за другого специалиста — за его рост, ошибки, внутренние процессы? Где для вас проходит граница этой ответственности?
Интересный вопрос. Моя позиция в этой работе — не разделять ответственность. Я полностью отвечаю за себя, а другие люди — за себя. Моя задача — создать такие условия, в которых терапевт будет чувствовать себя в безопасности и сможет развиваться рядом со мной как с наставником. Я могу давать ориентиры, быть источником поддержки, направлять своё влияние так, чтобы человек усвоил этические принципы, которые ведут нас в принятии решений и поступков.
Но если кто-то решает не идти этим путём — это уже его ответственность. Если я вижу, что он или она делает что-то неправильное, я могу действовать. Прежде всего — вынести это на уровень осознания, откровенно поговорить. Если это не даёт результата, я имею право сообщить о неэтичном поведении в соответствующие инстанции в стране.
Но если человек не делится сложными случаями, приносит на супервизию только «благополучное» — что я могу сделать? Это его выбор, его ответственность и один из рисков этой профессии. Я могу уменьшить этот риск, выстраивая поддерживающие, тёплые супервизионные отношения. Но моё влияние заканчивается именно там.
Есть ли у вас личные культурные ассоциации с супервизией — возможно, с музыкой, поэзией, визуальными образами?
Мой визуальный образ супервизии — это круг друзей, собравшихся на кофе-паузу в уютной гостиной. Это время расслабиться, побыть вместе в пространстве принятия, взаимности и понимания. Немного похоже на «Красный шатёр» (Red Tent) — убежище для менструирующих женщин, где они могут отдохнуть, восстановиться и набраться сил для ещё одного изматывающего месяца служения другим.
Есть ли у вас мечта, связанная с супервизией или преподаванием, которую вы ещё не осуществили?
Впереди у меня длинная карьера как супервизора, так и тренера, так что да — у меня большие мечты. В Словении мы до сих пор ждём принятия закона о психотерапии, и пока у нас нет чётких требований и правил. Но если будет возможность, я планирую основать собственный учебный институт интегративной психотерапии как дополнение к IPSA — известному и уважаемому учреждению. И преподавать интегративную психотерапию в разных странах мира.
Как вы представляете себе супервизию через десять лет — в профессиональном, общественном и культурном контексте психотерапии?
Я искренне надеюсь, что супервизия останется неотъемлемой частью всех программ подготовки психотерапевтов, ведь именно она является ключом к подлинной интеграции метода.
А ещё я мечтаю о том, чтобы психотерапия как профессия становилась более единой и опиралась прежде всего на науку, а не на культы личностей. Чтобы история о том, как Фрейд изгонял всех, кто мыслил иначе, больше не повторялась. Чтобы каждый новый автор не был вынужден создавать собственную школу, а мог присоединиться к уже существующему знанию и развивать его дальше.
В такой парадигме супервизия могла бы быть межметодной — и тогда появилось бы больше пространства для взаимного обучения.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.



























Комментарии
Ваш комментарий будет первым!