Амбивалентность: сердце глубинной психологии
Опубликовано в «Метод»
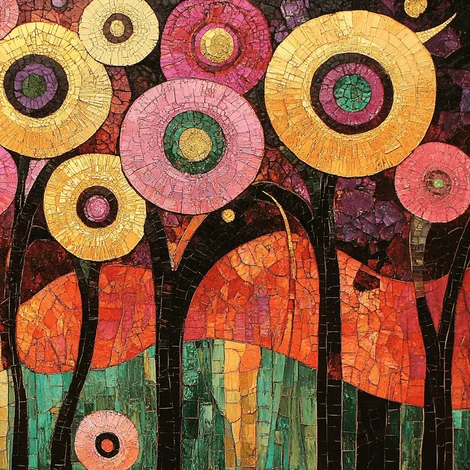
В глубинной психологии амбивалентность — признак зрелости. Возможность удерживать противоречивые чувства, не разрушаясь, не сбегая в защиту, не обесценивая одно во имя другого — один из признаков эффективной психической работы.
Когда в моей личной терапии психотерапевт заметил, что в моих чувствах и словах появилась амбивалентность, я с тревогой сказала: «Наверное, я становлюсь беспринципной». Он ответил: «Амбивалентность вполне может стать принципом сама по себе». Этот ответ остался во мне как опыт: не нужно спешить с оценками, когда внутри звучит больше одного голоса.
Фрейд одним из первых ввёл понятие Ambivalenz для описания сосуществования любви и ненависти в отношении к одному и тому же объекту. В письме к Флишу он писал: «Многие неврозы могут быть поняты как неудачная попытка справиться с амбивалентными побуждениями» (1896). Впоследствии понятие амбивалентности стало краеугольным камнем психоаналитической теории отношений.
Мелани Кляйн подчёркивала, что способность к амбивалентности — важный этап в психическом развитии. Она называла его депрессивной позицией, имея в виду не болезнь, а сдвиг восприятия: ребёнок начинает понимать, что мать — и любимая, и вызывающая злость — один и тот же человек. Это болезненно, потому что возникает вина за враждебные чувства, адресованные значимому объекту. Но именно в этот момент зарождается настоящая забота, способность к восстановлению связи и эмоциональной ответственности. Амбивалентность становится основой для эмпатии и зрелой привязанности.
Юнг, говоря об индивидуации, понимал под этим способность удерживать в себе противоположности. «Тот, кто избрал путь самопознания, должен быть готов встретиться в себе с вещами, которые кажутся несовместимыми, и всё же не пытаться их устранить», — писал он. Амбивалентность в юнгианском ключе — это не только конфликт чувств, но и ось развития: она питает процесс трансформации.
Когда амбивалентность становится целью терапии
Современная психотерапия всё чаще сталкивается с тем, что клиенты приходят не с симптомом, а с нетерпимостью к противоречиям. Желание немедленно определиться, выбрать «правильное» чувство, установить «настоящую» позицию — это защитный отказ от проживания сложности.
Развитие способности к амбивалентности — одна из скрытых целей глубинной терапии. Это не просто принятие «и того и другого», а сложная внутренняя работа. Психоаналитик Томас Огден отмечает: «Присутствие двух противоположных переживаний в одном психическом пространстве — условие субъектности. Когда одно чувство подавляет другое, субъект исчезает».
Кейс: право на выбор и вина
Клиентка на сессии говорит: «Я решила не ехать к маме на выходные. Хочу отдохнуть. Но мне стыдно, я как будто бросаю её». В ней одновременно звучит стремление к самостоятельности и вина. В поп-психологическом подходе можно услышать совет: «Ты имеешь право на свои границы. Отпусти вину».
Но аналитический подход не стремится вытеснить вину. Скорее, он помогает выдержать её и понять: чувство не отменяет право на выбор. В одной и той же психической реальности могут существовать и любовь к матери, и злость на её потребности, и желание отделиться, и вина за это.
Работа аналитика в этом случае — не «разрешить» конфликт, а остаться рядом в момент напряжения. Терапевт помогает клиентке выдержать переживание, не сбегая в рационализацию или обесценивание. С каждым таким эпизодом в психике формируется способность к внутреннему диалогу.
Амбивалентность как признак психической зрелости
Болезненность амбивалентности объяснима. Исторически и нейропсихологически человек стремится к ясности, предсказуемости, стабильности. Однако развитие психики не укладывается в бинарную логику.
Дональд Винникотт считал, что хорошая мать — та, кто выдерживает амбивалентность ребёнка, не разрушаясь под его злостью и не обесценивая свою заботу. Внутренняя материнская фигура, способная к такой выдержке, формируется в отношениях — как в раннем детстве, так и в терапевтическом процессе.
В аналитической работе важно распознать амбивалентность не как нестабильность или защиту, а как свидетельство оживлённой внутренней жизни. Она может звучать в противоречивых оценках себя и другого, в смене настроений, в колебаниях между желанием приблизиться и стремлением отдалиться. Эти сдвиги — не препятствие, а материал для работы. В них проявляется процесс символизации, в котором реальность отношений становится объёмной и многослойной.
Психотерапевт, способный не упрощать, а оставаться внимательным к внутренним противоречиям клиента, способствует формированию переживающего субъекта. Когда терапевтическое пространство не требует выбора между полюсами — между обидой и благодарностью, любовью и гневом — у клиента появляется опыт принятия сложности как формы живой связи. Амбивалентность перестаёт быть угрозой и становится признаком подлинной эмоциональной включённости.
Со временем это отражается и в повседневной жизни. Человек легче справляется с неопределённостью, становится менее подвержен импульсивным решениям, способен строить устойчивые отношения без идеализации и обесценивания. Он может оставаться в контакте с собой и другими, даже когда чувства противоречивы. Это и есть та зрелость, которая делает внутреннюю жизнь более глубокой, а внешнюю — более устойчивой.
Амбивалентность — не патология и не слабость. Это внутреннее напряжение, через которое рождается личность.
Цель терапии — не избавить от противоречий, а помочь им звучать в психике без разрушения. Там, где возможно выдерживать сложность, появляется способность к выбору, к любви без идеализации, к свободе без одиночества.
Как писал Юнг: «Только тот, кто в состоянии вынести конфликт противоположностей, способен родить живое».
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.























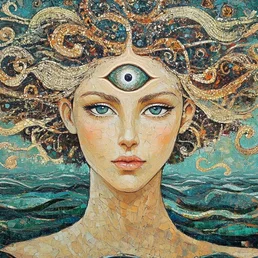


Комментарии
Ваш комментарий будет первым!