Джудит Герман о жизни, психиатрии и поддержке людей, переживших травму
Опубликовано в «Метод»

Что страшнее — травма или молчание, которое ее окружает?
Джудит Герман рискнула задать этот вопрос, когда официальная психиатрия предпочитала не замечать очевидного. Она доказала: насилие это не только личная трагедия, но и социальная проблема, системное явление, поддерживаемое культурой, властью и молчанием общества.
Ее исследования перевернули представления восстановлении и справедливости, открыв двери тому, что долгие годы оставалось табу.
Так что же на самом деле нужно людям, пережившим насилие? Разбираемся в ключевых идеях и борьбе Джудит Герман
Украинская Психотерапевтическая Лига и клуб «На кушетке» представляют вебинар Джудит Герман - «Сила и восстановление: научный подход к поддержке лиц, переживших травму».
Джудит Герман - профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы, известный американский психиатр и исследователь, специализирующаяся на изучении психологических травм и посттравматического стрессового расстройства. Ее работы внесли значительный вклад в понимание последствий насилия и методов восстановления.
Вебинар состоится 17 марта 2025 года. А пока мы предлагаем вашему вниманию интересные факты из биографии Джудит Герман, а также ее рассказ о книгах и научной работе, которые помогут больше узнать о ее жизни, становлении и профессиональной деятельности.
Полную версию интервью на английском языке можно посмотреть на YouTube-канале The Trauma Therapist Podcast.
Мой путь в психиатрию начался задолго до того, как я осознала свой выбор
Я родилась и выросла в Нью-Йорке, но судьба привела меня в Кембридж, штат Массачусетс, когда я поступила в колледж. С тех пор этот город стал моим домом, и я не покинула его больше.
Я выросла в семье, где медицина и психология были не просто профессиями, а наследием. Мой дед, еврейский иммигрант из Восточной Европы, прибыл в Америку в 1887 году, спасаясь от службы в царской армии. Он начал с торговли на Нижнем Ист-Сайде, но все свободное время учил английский и копил деньги на обучение в медицинской школе. В конечном итоге он стал врачом общей практики и работал в том же районе, где когда-то начинал с нуля.
Его дочь, моя мать, выбрала психологию. Когда я решила пойти по ее стопам, она сказала: «Иди в медицинскую школу – у тебя будет больше власти». И она была права. Но я думаю, что за этим советом скрывалось нечто большее – ее желание, чтобы я продолжила дело моего деда. Возможно, именно поэтому она назвала меня в его честь. Со временем я поняла, что наши личные решения зачастую вписываются в общий ход истории.
Передо мной раскрылась страшная правда: между пережитым насилием в детстве и суицидальными мыслями во взрослой жизни существовала прямая связь
В 1970 году, поступив в ординатуру по психиатрии, я вступила в феминистскую группу Consciousness Raising Group Red and Roses Collective №9. Это изменило мое восприятие мира, особенно в том, что касается жизни женщин и скрытого насилия, которому они подвергаются. Тогда же я впервые столкнулась с этим в своей профессиональной практике. Моими первыми пациентками в стационаре стали две женщины, пережившие сексуальное насилие со стороны собственных отцов. Обе оказались в больнице после тяжелых попыток самоубийства.
Я выслушала их. Я поверила им. И именно тогда передо мной раскрылась страшная правда: между пережитым насилием в детстве и суицидальными мыслями во взрослой жизни существовала прямая связь. Но официальная психиатрия того времени игнорировала этот факт. Основной учебник утверждал, что инцест – явление крайне редкое, встречающееся «в одном случае на миллион». Но если это так, почему же я столкнулась с двумя такими случаями в первую же неделю работы?
Я и моя коллега Лиза Хершман начали задавать вопросы. Очень быстро мы собрали 20 задокументированных случаев среди знакомых врачей и исследователей. В 1975 году мы опубликовали нашу статью в новом журнале по гендерным исследованиям. Однако самое неожиданное началось еще до официальной публикации. Копии статьи стали распространяться по всей стране. Люди передавали их из рук в руки. Мы начали получать письма от женщин, которых никогда не знали.
«Я думала, никто не поверит мне». «Я считала, что это моя вина». «Я была уверена, что я единственная».
Это был настоящий прорыв. Как когда-то женские признания о насилии и изнасилованиях меняли общественное сознание, так и наше исследование стало частью этого движения.
Долгое время общество отказывалось признавать масштаб проблемы инцеста, утверждая, что это редкое явление, встречающееся лишь в исключительных случаях. За этим мифом скрывалось еще более страшное убеждение — что девочки сами этого хотят. Именно поэтому жертвы молчали годами. Но пришло время говорить.
Слушать истории женщин, переживших насилие, было тяжело, но я не была одинока в этом пути
Меня поддерживало сообщество — моя группа осознания (Consciousness Raising Group), которая стала для меня настоящей опорой. В ней я впервые увидела, насколько повсеместным является сексизм, и осознала, что он пронизывает все сферы жизни.
Я пыталась не реагировать на каждое проявление несправедливости, решив для себя замечать только одно сексистское высказывание из десяти, иначе просто не выдержала бы. Но в итоге говорила об этом постоянно. Это не всегда делало меня популярной среди коллег, но медсестры поддерживали меня — они знали, о чем я говорю.
Помимо сообщества, мне повезло с наставниками. В отличие от тех, кто предпочитал игнорировать проблему или списывать рассказы женщин на «женские фантазии», мои наставники воспринимали эти истории всерьез. Они не обесценивали переживания пациенток, не сомневались в их словах и не пытались заставить меня усомниться в том, что я слышала. Их поддержка стала для меня важным подтверждением того, что я двигаюсь в правильном направлении.
В этом смысле я находилась в моменте пробуждения — только начинала видеть масштаб проблемы и понимать, насколько важно не отворачиваться от этих историй. И даже если слушать их было непросто, я знала, что каждая из них должна быть услышана.

Травма затрагивает все. Независимо от того, что пережил человек, его организм и разум реагируют одинаково. Страх, беспомощность, утрата контроля — переживания универсальны
Работа над книгой «Травма и восстановление» стала логичным продолжением моего пути, но ей предшествовал долгий процесс
Мое первое исследование, «Инцест отца и дочери» (Father-Daughter Incest), было опубликовано в 1981 году и вызвало широкий резонанс. Именно после выхода этой книги меня пригласили в Комитет по делам женщин при Американской психиатрической ассоциации, а затем в отделение психиатрии Кембриджской городской больницы.
На тот момент больница только что стала учебной клиникой Гарвардской медицинской школы и была одним из самых новаторских учреждений в области психиатрии. Это была общественная клиника, обслуживавшая пациентов, которых не принимали другие учреждения. Команда, работавшая над созданием отделения, придерживалась принципов общественной психиатрии — подхода, который сегодня снова открывают заново, но тогда это было настоящим прорывом.
Мы работали в эпоху деинституционализации, когда существовало убеждение, что людей с тяжелыми психическими заболеваниями можно лечить в сообществе, а не в закрытых психиатрических больницах. Но, как известно, эта реформа не привела к ожидаемому результату. Государственные психиатрические учреждения закрывались, но обещанных социальных программ так и не создали — особенно после прихода к власти Рональда Рейгана.
В итоге улицы и тюрьмы превратились в новые психиатрические больницы, где оказались люди с тяжелыми психическими расстройствами и зависимостями. Это стало катастрофой, разрушившей систему здравоохранения. Однако, если углубляться в эту тему, слишком легко впасть в ярость и отчаяние.
Несмотря на все сложности, в Кембриджской больнице работа шла в правильном направлении. Больница получила грант в размере шести тысяч долларов от города Кембридж для разработки программ поддержки жертв преступлений. Но никто из руководства психиатрического отделения не хотел этим заниматься. Так что этим занялись мы с Мэри Харви. Нам предстояло создать нечто новое — Программу помощи жертвам насилия (Victims of Violence Program).
Мы начали с того, что пошли в офис окружного прокурора и поговорили с адвокатами, работающими с пострадавшими. Нам было важно понять, какие услуги действительно нужны людям, пережившим насилие. Именно с этого все и началось.
Для меня все стало абсолютно ясно: травма есть травма. Неважно, кем был человек — жертвой изнасилования, ветераном войны, узником концлагеря или женщиной, избитой мужем
В нашей программе мы в основном работали с людьми, пережившими насилие. Это были жертвы жестокого обращения в детстве, сексуального насилия, домашнего насилия. Но к нам также обращались беженцы, которые искали политическое убежище после пыток и преследований в своих странах.
Со временем мы с Мэри Харви присоединились к исследовательской группе, организованной Бесселом ван дер Колком (Бессел ван дер Колк — известный психиатр и исследователь в области травматических стрессовых расстройств. Его наиболее известная книга — «The Body Keeps the Score» («Тело помнит все»), в которой он исследует влияние травмы на мозг, разум и тело, а также методы исцеления - прим. ред).
Он тогда работал с ветеранами войны, и в группе собрались специалисты, изучавшие разные виды травмы. Кто-то лечил пациентов с тяжелыми ожогами в Массачусетской больнице общего профиля, кто-то помогал детям, пережившим насилие, кто-то работал с жертвами пыток и геноцида. Мы встречались раз в месяц в чьем-то доме, обсуждали исследования, делились наблюдениями и искали общие закономерности.
И тогда для меня все стало абсолютно ясно: травма есть травма. Неважно, кем был человек — жертвой изнасилования, ветераном войны, узником концлагеря или женщиной, избитой мужем. Несмотря на различия в контексте, механизмы психологической травмы оставались одними и теми же.
Травма затрагивает все — тело, мозг, психику. Независимо от того, пережил ли человек ужасы войны, геноцида или стал жертвой бытового насилия, его организм и разум реагируют одинаково. Страх, беспомощность, утрата контроля — эти переживания универсальны. Именно поэтому я написала «Травму и восстановление» — чтобы показать: травма есть травма. Ее природа не меняется в зависимости от обстоятельств.
Работа над книгой «Правда и восстановление: Как пережившие травму представляют себе справедливость» (Truth and Repair: How Trauma Survivors Envision Justice) началась задолго до ее публикации
Этот проект - книга «Правда и восстановление: Как пережившие травму представляют себе справедливость» (Truth and Repair: How Trauma Survivors Envision Justice, 2023), долгое время находился в стадии осмысления. Более двадцати лет назад я получила грант в Институте перспективных исследований Рэдклиффа и начала исследовать, через что проходят мои пациенты, когда пытаются добиться справедливости через традиционную судебную систему.
Большинство жертв никогда никому не рассказывали о насилии, не говоря уже о том, чтобы обращаться в полицию. Но даже те, кто решался на этот шаг, почти неизменно сталкивались с разочарованием. Тогда у меня возник вопрос: а что, если просто спросить их, чего они действительно хотят? Вместо того чтобы навешивать на них ярлыки мстительных или лживых, как это делает общество.
Стереотипы вокруг жертв насилия глубоко укоренены: «Женщины лгут», «Женщины мстительны», «Женщины фантазируют», «А что она носила?», «А сколько она выпила?». В залах суда жертвы насилия чаще воспринимались как подозреваемые, чем как пострадавшие. Их подвергали сомнению, унижению, разоблачению, лишая последней надежды на признание их боли. Это требовало осмысления на уровне не только индивидуального, но и социального.
Так родился этот проект. Его концепция заключалась в том, что травма, вызванная не стихийными бедствиями или несчастными случаями, а насилием со стороны другого человека, всегда связана с несправедливостью, злоупотреблением властью и нарушением границ. Это не просто индивидуальная трагедия – это социальная проблема.
Этот аргумент уже был центральным в моей книге «Травма и восстановление», но теперь он требовал более глубокого анализа. Насилие не ограничивается частными случаями – если взглянуть на эпидемиологические данные, становится очевидно, что оно системно. Оно поддерживается культурой, структурой власти и молчаливым согласием общества.
Чего хотели выжившие? Исследование дало ответ, который оказался поразительно единообразным: почти все жертвы хотели чтобы правда стала известной
Разве индивидуальное исцеление может решить проблему, которая носит массовый и общественный характер? Очевидно, что нет. Ни для отдельного человека, ни для общества в целом.
Но тогда встает следующий вопрос: где же социальное правосудие? Чего хотели выжившие? Исследование дало мне ответ, который оказался поразительно единообразным. Почти все жертвы говорили одно и то же: главное, чего они хотели – чтобы правда стала известной. Они не требовали жестокого возмездия, не жаждали мести, но хотели, чтобы преступники были разоблачены. Для них было важно, чтобы насильников остановили, чтобы они больше не могли причинять вред другим.
Не менее важно для них было признание со стороны общества – от свидетелей и пособников до структур, позволявших насилию происходить. Они хотели, чтобы общество осознало свою ответственность, чтобы оно перестало делать вид, будто насилие – это редкость, единичные случаи, а не системная проблема. Потому что именно безнаказанность делает насилие «нормой».
Они не требовали финансовой компенсации. Напротив, многие говорили: «Мне противно даже думать о том, чтобы взять от него хоть что-то. Я не хочу ничего, что исходит от него». Но затем они задавали вопрос, который должен был бы задать себе каждый из нас: «А что насчет общества, которое позволило этому случиться?»
Они не нуждались в извинениях от преступников – слишком хорошо знали, что им никогда не поверят.
Но что насчет тех, кто знал? Кто видел и молчал? Кто отводил глаза, когда мог остановить? Этот вопрос звучит громче любого обвинения. Он разоблачает не только отдельных насильников, но и всю систему, которая годами учила жертв молчать.

Чего хотели выжившие? Жертвы говорили одно и то же: они хотели чтобы правда стала известной
Первый шаг к изменениям – это сделать их видимыми. Вывести правду на свет, дать ей голос. Потому что только тогда, когда общество перестанет молчать, появится шанс на справедливость и восстановление
Читать об этом всегда было тяжело. Невыносимо осознавать, что жертвы насилия вынуждены существовать в мире, где все вокруг знают, но молчат. Это вызывает ярость и заставляет задуматься: что должно произойти, чтобы что-то изменилось? Почему общество предпочитает не говорить об этом, избегает обсуждения тем, требующих перемен?
Свою карьеру я начинала в феминистских группах осознания. Сегодня мы наблюдаем новую волну пробуждения – движение #MeToo, #BlackLivesMatter, борьбу за права человека и социальную справедливость. Один из ключевых аргументов моей книги «Травма и восстановление» заключается в том, что насилие – это не только личная трагедия, но и социальная, политическая проблема. А если проблема носит социальный характер, то и решение должно приходить через социальные движения.
Это справедливо для любой системы, в которой одна группа традиционно доминирует над другой. Я посвятила свою работу изучению гендерного насилия, потому что эта тема сопровождала меня на протяжении всей профессиональной жизни. Однако принцип доминирования и подчинения остается неизменным – будь то гендер, раса, религия, каста или социальный класс. Во всех этих случаях власть удерживается с помощью насилия.
Никто не желает быть в подчиненном положении – это противоречит человеческой природе. Но когда доминирование продолжается веками, оно укореняется в институтах и культуре. Оно становится незаметным, воспринимается как естественный порядок вещей, словно воздух, которым мы дышим.
Первый шаг к изменениям – это сделать их видимыми. Вывести правду на свет, дать ей голос. Потому что только тогда, когда общество перестанет молчать, появится шанс на справедливость и восстановление.
Восстановительное правосудие строится не на принципе возмездия, а на попытке исправить причиненный вред
Правосудие – сложный и многогранный механизм, который с древних времен стремится установить баланс между справедливостью и наказанием. В традиционных правовых системах действует принцип распределительного (дистрибутивного) правосудия, когда за каждое нарушение закона следует соразмерное наказание. В уголовных судах это выражается в штрафах и тюремном заключении, а в гражданских – в выплате компенсации. Такой подход исходит из идеи возмездия и обеспечения порядка через наказание.
Однако существует и иной путь – восстановительное правосудие. Оно строится не на принципе возмездия, а на попытке исправить причиненный вред. В этой системе главным является не само наказание, а процесс восстановления справедливости путем диалога, признания вины и возмещения ущерба.
Традиционная судебная система основана на противостоянии. Обвинение и защита ведут борьбу в рамках установленных процедур, при этом судья или присяжные выступают арбитрами, которые принимают окончательное решение. Этот процесс зачастую сопровождается жесткими методами допроса, психологическим давлением и тактиками, направленными на выявление истины через конфронтацию.
В восстановительном правосудии механика совершенно иная. Здесь не требуется выявлять истину с помощью допросов и состязательных процедур. Важно, чтобы человек, совершивший проступок, сам осознал свою ответственность и был готов принять меры по исправлению ситуации. Вместо традиционного суда действует посредник, который организует встречу между пострадавшим и тем, кто причинил вред. В диалоге принимают участие также представители сообщества, если это необходимо. Пострадавший рассказывает, какие последствия имело совершенное деяние, и высказывает свои пожелания относительно компенсации. Человек, причинивший вред, приносит извинения и соглашается на меры, которые помогут исправить ситуацию. Вместе они разрабатывают план возмещения ущерба – это может быть как материальная, так и нематериальная компенсация.
Такой подход несет в себе множество преимуществ. Для пострадавшего этот процесс менее травматичен, чем судебное разбирательство, поскольку позволяет ему не только добиться справедливости, но и получить моральное удовлетворение от признания его боли. Для человека, совершившего проступок, восстановительное правосудие представляет возможность исправления, а не просто наказания. К тому же принятые решения более гибкие и точнее отвечают потребностям потерпевшего.
Однако восстановительное правосудие возможно только в одном случае – если человек, совершивший правонарушение, действительно готов взять на себя ответственность за содеянное. Без этого система не может функционировать. В основе ее эффективности лежит искренность, осознание последствий и желание исправить ситуацию, а не принуждение и страх перед наказанием.
Одна из героинь интервью выразила эту мысль особенно точно: «Прощение — это отказ от надежды на лучшее прошлое»
Прощение — тема сложная и противоречивая, наполненная множеством оттенков и нюансов. Каждый человек понимает его по-своему, находя в этом процессе личный смысл. Существует два ключевых аспекта прощения. Первый связан с восстановлением отношений. Когда человек получает искренние извинения, видит раскаяние и реальные попытки исправить содеянное, прощение становится возможностью освободиться от тяжести обиды. В этом случае оно не просто облегчает эмоциональное бремя, но и открывает путь к новому доверию.
Второй аспект — прощение как внутренний процесс, не связанный с примирением. Оно становится способом освободиться от гнева и боли, даже если тот, кто причинил зло, не раскаивается или вовсе отсутствует в жизни. В таком понимании прощение — это не примирение с обидчиком, а примирение с самим собой. Это принятие реальности, осознание утраты иллюзий о том, что прошлое можно изменить. Одна из героинь интервью выразила эту мысль особенно точно: «Прощение — это отказ от надежды на лучшее прошлое».
В этих словах заключена глубокая истина. Признание того, что события остались в прошлом и не могут быть переписаны, становится важным шагом на пути к исцелению. Прощение не всегда означает согласие с тем, что произошло, но оно позволяет освободить сердце от тяжести, перестать цепляться за боль и двигаться вперед.
Работа с травмой — всегда трудный путь. Для специалистов, только начинающих этот путь, важно помнить: нельзя работать в одиночку. Даже если кажется, что ко всему уже привыкли, это может быть первым признаком выгорания. В этой сфере всегда найдется что-то, что выходит за рамки самого страшного, что можно вообразить. Поддержка коллег, совместные обсуждения, осознание собственных границ — все это необходимо для того, чтобы продолжать помогать и самому оставаться целым.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.
























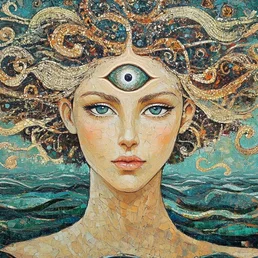

Комментарии
Ваш комментарий будет первым!