Луиджи Зойя. Отец
Опубликовано в «Опыт»

Что означает быть отцом в XXI столетии, в эпоху равноправного партнёрства, усталости от авторитетов и кризиса идентичности? Как изменялось представление об отцовстве — от античных мифов до постпатриархального мира, где мужчина может быть рядом, но уже не имеет силы говорить «от имени»?
В майском выпуске The Psychologist, посвящённом мужской психике, мы обращаемся к одной из самых интересных работ на эту тему — книге итальянского психоаналитика Луиджи Зойя «Отец» (2000 год), которая была отмечена психоаналитической премией Gradiva. В нашем обзоре вы найдете главные идеи книги, сохраняющей актуальность даже спустя четверть века после ее публикации.
Отец как культурный парадокс и психологическая констелляция
Фигура отца в истории человечества — это не данность, а результат напряжённого культурного и психологического становления. Луиджи Зойя утверждает: отец — изобретение цивилизации, а не природы. Если мать даётся телесно, органически, то отец — это функция, на которую мужчина должен осознанно встать. Она требует усилия и воли, а потому всегда сопряжена с риском отказа, утери, провала.
«Отец — это программа, — может быть, первая программа, — это преднамеренность, это воля… Но если история ему его дала, история может его и отнять».
Природа устроена так, что роль самца заканчивается после зачатия. Даже у высокоразвитых приматов самец не узнаёт своего потомства и не заботится о нём. Только человек создал отцовство как символический акт: «усыновить» даже собственного ребёнка, признать его, стать для него посредником между биологией и обществом.
«В отличие от матери, которая даёт жизнь самым очевидным образом… мужская особь, чтобы понять, что она также участвовала в процессе порождения… обязана прежде обладать определённой способностью к размышлению».
Парадокс отца: любовь или сила
В книге разрабатывается ключевая идея — «парадокс отца». В отличие от матери, которая оценивается за заботу о ребёнке, отец оценивается и за то, как он проявляется во внешнем мире. От него ждут сразу двух несовместимых вещей: нежности и победы, любви и власти, справедливости и способности к насилию. Если отец проигрывает в борьбе — он теряет не только авторитет, но и право быть отцом в бессознательном восприятии ребёнка.
«Ребёнок просит: „Будь со мной добрым, будь справедливым. Люби меня. Но с другими будь, прежде всего, сильным: даже если для этого понадобится насилие, даже ценой несправедливости“».
Зигмунд Фрейд переживает этот парадокс буквально. Его отец, Якоб, позволил публично унизить себя на улице — и маленький Зигмунд был потрясён не самим унижением, а тем, что отец ничего не сделал в ответ. Это и стало, по мнению биографов, поворотным моментом в судьбе Фрейда, обнажившем внутренний конфликт между образом отца как доброго человека и как носителя силы.
«Отсутствие героизма в человеке, который до того был для него абсолютным примером… ударило, как тяжёлый молот, по его сознанию».
Современность и крах героической модели
Современный отец утратил свои привилегии и полномочия. С одной стороны, это шаг к гуманизации отцовства: меньше агрессии, больше участия. С другой стороны, отец оказывается «добрым, но неэффективным», «присутствующим, но неуважаемым». Всё чаще дети выбирают себе других фигур — харизматичных, жёстких, порой криминальных — чтобы почувствовать контакт с силой.
«Многие дети удаляются от кроткого отца, слабого в их глазах, и отдают своё восхищение какому-нибудь типу, склонному к насилию, который держит в страхе весь квартал».
Образ Джеппетто из «Пиноккио» здесь становится архетипическим: честный, заботливый, но скучный отец вытесняется ярким, вызывающим, опасным Фитилем, с которым легче почувствовать себя живым. Эта символическая история повторяется в тысячах современных судеб.
«Может быть, именно благодаря этому сия древняя провинциальная итальянская сказка до сих пор пользуется мировой популярностью».
Отец как волевой акт: от Рима до Чаплина
Зойя подчеркивает: в отличие от матери, которая становится ею «автоматически», отец должен подтвердить свою роль — сначала перед обществом, потом перед самим ребёнком. Римское право воплотило это в буквальном обычае: отец должен был признать новорождённого как своего. Иначе он им не становился.
«Даже законный отец должен совершить публичный акт, которым он подтверждает своё желание быть отцом ребёнка… Каждое отцовство требует усыновления».
Это символика прекрасно передана в фильме Чарли Чаплина «Малыш». Герой находит ребёнка, которого никто не ждал, и постепенно становится ему отцом. Он не знает его происхождения, но именно встреча, забота, совместный путь и превращают мужчину в отца. Это не биология — это решение.
«Отцом его делает не то, что он физически породил сына, а встреча с ребёнком… и выход из нецивилизованного состояния».
Пациентка и проклятие побеждённого отца
Один из самых сильных фрагментов книги — история пациентки, чьё презрение к отцу стало основой глубокой вины. Её отец был предпринимателем, мягким, слабо агрессивным. Когда он заболел раком, она не смогла пробудить в себе сострадание. Он казался ей не просто умирающим — он олицетворял собой проигравшего.
«Этот человек был всё ещё в наряде побеждённого, только этот наряд пустил свои ужасные корни в тело… как неприятное насекомое между простынями её кровати».
Даже любовь не спасала от отвращения. Девушка уходила из дома, хлопая дверью, бросая отца в страданиях. И лишь годы анализа позволили ей распутать этот клубок отвержения, вины и бессознательного страха заразиться слабостью.
«Мне до сих пор внушают ужас эти мои несправедливые чувства: но мне тяжело преодолеть отвращение к побеждённым… В глубине души я кричала отцу: „Раз уж ты выбрал работу, которой следует стыдиться, ты должен хотя бы разбогатеть!“».
Коллективный отец и западное лицемерие
Парадокс отца отражён не только в семье, но и в истории западной цивилизации. Она построена на христианстве — религии любви, милосердия и самоотречения. Но при этом именно Запад распространил власть по миру через войну, грабёж и экономическое насилие.
«Это общество основано на Христианстве, в то же время оно распространяется „по-дарвинистски“, насаждается силой…».
Так отец, который должен был быть «добрым и справедливым», оказался проводником власти, силы и агрессии. Эта двойственность — от индивидуального до цивилизационного уровня — делает современное восприятие отца травматичным. Он больше не носитель ясного смысла, он — источник раздвоения.
«Как и отдельно взятый отец, патриархат колеблется между законом любви и законом силы… и далёк от их примирения».
Греческий излом: как отец стал выше матери
Античная Греция — первая культура, которая провозгласила верховенство отца как биологического и духовного источника жизни. По словам Зойи, именно здесь начинается культурное «переворачивание природы»: отцовство становится главным, а материнство — вторичным.
«Для древних греков отец — исключительный родитель ребёнка. Мать… только кормилица, которая его питает».
Греция становится началом того, что Зойя называет «искусственным отцовством» — культурным построением, отрицающим природную симбию матери и ребёнка. Эта искусственность и породит в дальнейшем неуверенность, насилие и страх утраты роли.
Рим: отец как закон и воля
Рим идёт дальше: он не только утверждает превосходство отца, но и вводит его в закон. Отец — pater familias — имеет юридическую и сакральную власть над всеми домочадцами. Но интереснее не сила, а то, что даже в законе отцовство нужно подтвердить актом воли.
«Чтобы быть отцами… недостаточно родить ребёнка, необходима также определённая воля».
Это делает отца символом закона. Вся римская культура строится на его решении — признать, передать имя, взять на себя. И это навсегда закрепляет ассоциацию: отец — это власть, структура, граница.
Христианство и кризис отца
С приходом христианства происходит уникальный культурный парадокс: Бог — это Отец, но Отец, отвергающий отцовство в человеческом смысле. Бог Отец не рождал, не жил с сыном, не воспитывал. Он — принцип.
«В христианстве утверждается образ отца, но… это абстрактный отец, нематериальный, отстранённый, он далеко».
Так западный человек веками формируется в парадоксе: он должен почитать отца, которого не знает, не чувствует, не может потрогать. Ни один реальный отец не может соответствовать образу Небесного. И каждый сын обречён разочароваться.
Современный отец: добрый, но бесполезный
Секуляризация и демократизация XX века обесценивают фигуру отца. Он больше не вождь, не жрец, не король. Он партнёр, «ко-родитель». Но, как показывает Зойя, реальное участие мужчин в жизни детей остаётся мизерным. Образ отца — изменился. Его поведение — нет.
«Хотя за несколько десятилетий… образ отца… переместился от главы семейства к co-parent… реальное участие… осталось незначительным».
Сегодняшняя культура продвигает новый тип отца — мягкий, заботливый, но без силы. В голове — современный идеал. В бессознательном — тысячелетний архетип.
«Наше бессознательное не уничтожает за несколько поколений то, что владело им в течение тысячелетий».
Исчезновение отца и культура вытеснения
Сегодняшний мир переживает не просто кризис, а исчезновение отца. Это исчезновение — не только физическое (разводы, дистанция, неучастие), но и символическое. Образ отца стёрт из коллективной фантазии, из массовой культуры, из будущего.
«Превращение отца в исчезающий вид» — это не преувеличение, а точная характеристика культурного процесса.
Молодые люди больше не ждут, что отец даст им путь. Они ищут силу вне семьи — в группах, сетях, экстремальных образах.
«Современной молодёжи всё труднее становится найти другой берег, на который „перейти“…»
Отец больше не защищает — его заменяет система. Он не формирует идентичность — это делает маркетинг. Он не передаёт знание — это делают алгоритмы.
Невозможное ожидание и двойные требования
Современный отец сталкивается с двойным требованием: быть заботливым и тёплым — и в то же время источником силы. Он должен быть «не таким, как старые отцы», но бессознательно ребёнок всё ещё хочет, чтобы он был точно таким.
«Мать оценивается как мать… Отец же оценивается… и за то, как он взаимодействует с обществом».
Если он мягкий — его презирают. Если сильный — его обвиняют. В итоге его не уважают — ни дети, ни культура, ни он сам.
Отец — носитель неуверенности
Зойя называет ключевым чувством отцовства — неуверенность. Он всегда между ролями, между законами, между ожиданиями. Это делает его хрупким — и человечным.
«Отец носит броню… даже когда обнимает своего ребёнка».
«Отец — это конструкция… в сравнении с матерью, намного менее уверен в своём положении».
Надежда в «муравьях истории»
Тем не менее, Зойя завершает книгу с надеждой. Несмотря на все кризисы, по-прежнему существуют «достаточно хорошие» отцы. Неидеальные, не блистающие, но — живые. Именно они передают культуру, создают возможность быть человеком, дают опору.
«Это оптимистическое открытие… подтверждает мысль о том, что надёжные отцы… были и остаются… Именно они — муравьи истории».
Вывод
Чтобы вернуть фигуру отца — не в форме власти, а в форме ответственности — нужно вновь пройти путь: не от силы к подчинению, а от воли к связи. Отец — это не форма контроля, а форма встречи.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.











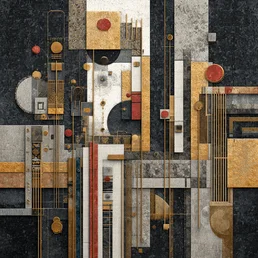







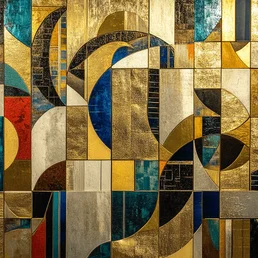






Комментарии
Ваш комментарий будет первым!