Популярная психология и культ границ
Опубликовано в «Опыт»
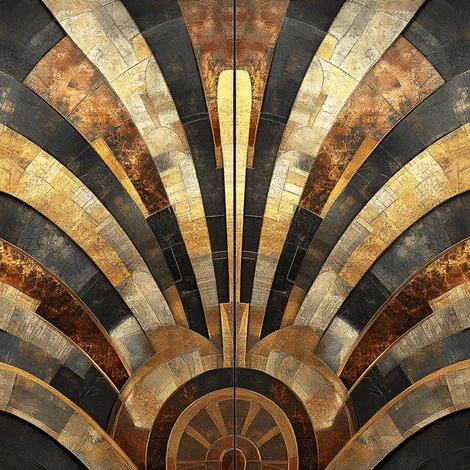
Язык психологии или язык войны?
Если прислушаться к тому, как сегодня говорят о границах, особенно в популярной психологии, становится очевидным: этот язык пронизан военными метафорами.
«Защита», «вторжение», «нападение», «удержание», «нарушение» — эти слова не просто создают образ, а выстраивают целую схему переживания. Есть угроза, есть враг, есть необходимость обороняться.
Такой способ речи формирует внутреннюю картину мира как поле боя. Он запускает автоматические реакции: мобилизацию, жёсткость, отчуждение. Пространство самопонимания постепенно превращается в стратегическую карту, где обозначено, кто союзник, кто враг, а кто — шпион.
Для психики, пережившей травму, такая схема действительно может дать временное облегчение. Военная логика упрощает сложное, создавая иллюзию контроля. Есть «я», есть «другой». Другой — опасен. Можно не чувствовать, не сомневаться, а просто действовать. Но вместе с этим блокируется другое — способность исследовать, выдерживать хаос, искать диалог.
Глубинная психология давно предупреждает: распространённая риторика вроде «защищайся», «обрывай», «не позволяй» — это не всегда про силу. Чем меньше осознаны внутренние импульсы, такие как злость или тревога, тем сильнее они проецируются наружу.
Там, где психика не способна выдерживать амбивалентность, неизбежно возникает образ угрозы. Граница, которая должна быть инструментом различения, превращается в рубеж между осознанным и вытесненным. А враг — это часто не другой человек, а часть собственной психики, которую трудно принять.
Классики теории объектных отношений, в частности Мелани Кляйн и Дональд Винникотт, писали о том, как детская психика формирует границу между «я» и «не-я» через опыт безопасности и разрушения. Там, где не было надёжного Другого, границы формируются искажённо: они либо слишком проницаемы, либо чрезмерно жёстки. В первом случае человек растворяется в других, во втором — изолируется. И то, и другое делает невозможным подлинный контакт.
Поэтому если язык, которым вы говорите о границах, звучит как инструкция по обороне, стоит остановиться и спросить себя: это зрелая реакция или ответ на травматическую тревогу? Ведь настоящая граница не отдаляет, а различает. Не укрепляется, а настраивается.

«Защита», «вторжение», «нападение», «удержание», «нарушение» — эти слова не просто создают образ, а выстраивают целую схему
Границы как феномен терапевтических отношений
Научные подходы в психотерапии сосредотачиваются не столько на бытовых или социальных границах, сколько на тонкой конфигурации границ в терапевтическом пространстве. Именно они, а не рассказы клиента, живая, телесно-эмоциональная взаимосвязь, постепенно раскрывают его внутреннюю картину отношений с миром.
То, как человек ощущает дистанцию, как переносит молчание, как реагирует на паузу или отказ, всё это указывает на его способ быть с Другим. Клиент может долго и подробно рассказывать о себе, но именно спонтанные реакции в терапевтическом контакте показывают, где проходят невидимые рубежи между «я» и «другим», между ожиданием и реальностью, между внутренним и внешним.
Глубинная психология рассматривает эти границы не как фиксированную конструкцию, а как подвижную, изменчивую конфигурацию, которая формируется во взаимодействии. Так, Мелани Кляйн описывала границы «я» как результат непрерывного обмена с внешним миром. Человек бессознательно отщепляет и проецирует собственные состояния на Другого, не только чтобы избавиться от невыносимого, но и чтобы сохранить внутреннюю целостность. Поэтому работа с границами — это одновременно работа с проекциями и с тем, как внутреннее воспринимается как внешнее.
Терапевтическое пространство — это уникальная среда, где такая работа становится возможной. Оно держится на стабильных опорах: времени, месте, ответственности. Именно устойчивость этих рамок создаёт ощущение безопасности и позволяет психике проявиться без страха быть разрушенной.
Мария-Луиза фон Франц, ученица Карла Юнга, посвятила десятилетия исследованию символических структур бессознательного. Она подчёркивала, что подлинная трансформация не возникает в ясности, а рождается в выдерживании напряжения между противоположными силами — между доверием и настороженностью, близостью и дистанцией. В этом смысле границы — не броня, а инструмент удержания противоречий без разрушения.
Задача терапии состоит не в том, чтобы просто защитить эти границы, а в том, чтобы научиться чувствовать их конфигурацию, замечать моменты, когда они слабеют или, наоборот, становятся ригидными. Это путь к осознанию, принятию и внутренней гибкости.
А в терапии понимание — это всегда форма любви.
Как временное обезболивающее, риторика жёсткой защиты создаёт ощущение простоты: есть угроза, есть защита, есть граница. Не нужно чувствовать, не нужно сомневаться, достаточно просто действовать. Эта схема не решает проблему, но снижает внутреннее напряжение. Как алкоголь или сахар, она даёт быстрое облегчение, но ненадолго. И, как любая зависимость, с каждым повторением только усиливается.
Травма — это не просто болезненное событие. Это состояние, в котором психика не смогла справиться с пережитым. Внутренних ресурсов оказалось недостаточно, а внешний мир — слишком опасным или недоступным. То, что должно было быть осмыслено и пережито, отщепилось и осталось внутри в виде неинтегрированного опыта.
Как писал Дональд Калшед, травматическая ситуация активирует архетипическую защитную систему — внутренний механизм самосохранения. Её задача — это сохранить жизнь, даже ценой блокировки психического развития.
Эта система формирует защитную капсулу. В ней «замораживается» всё, что может вызвать повторную боль: унижение, беспомощность, чувство уязвимости.
Главный принцип этой капсулы — «никогда больше». Никогда больше не чувствовать. Никогда больше не быть в позиции жертвы. Никогда больше не доверять. Но вместе с болью блокируется и спонтанность, и открытость. Психика начинает избегать не только угроз, но и самих жизненных ситуаций, чтобы не столкнуться с новой болью.
Капсула не ведёт к интеграции, она лишь фиксирует опыт изоляции. Любые идеи, которые обеспечивают безопасность через жёсткий контроль, становятся её продолжением. Установки вроде «защищай свои границы любой ценой», «никогда не прощай», «обрезай всё сразу» создают иллюзию силы, но одновременно подтверждают исходную картину, где угроза реальна, опасность существует, всё может повториться. Это закрепляет тревожную модель и не даёт двигаться вперёд. Так формируется замкнутый внутренний круг.
Человек смотрит на мир сквозь призму угрозы, воспринимая всё как потенциальное нарушение. Контакт становится невозможным, а жизнь — бесконечным избеганием травматической зоны. Психика обходит ситуации, в которых возможна новая боль, но при этом теряет и возможность для роста.
Я лишь подчеркну: эта система может казаться логичной, эмоционально убедительной, даже этически оправданной. Она может выглядеть как зрелая позиция, как забота о себе, как принцип. В ней можно жить последовательно, дисциплинированно, рационально. Но доступ к живому, подлинному, непосредственному переживанию всё равно остаётся закрытым.
Выйти из этой капсулы возможно только тогда, когда появляется новый опыт. Когда другой человек не нарушает границу, а откликается. Когда граница перестаёт быть стеной и становится местом контакта.
Терапия позволяет пережить именно такой опыт. Границу можно узнавать. Она не обязательно означает опасность. Жизнь не сводится к повторению. Формула «никогда больше» перестаёт быть единственным способом защиты.
Некоторые защитные стратегии формируют зависимость. Человек испытывает краткое облегчение — отказавшись от взаимодействия, оборвав контакт или выключив эмоции и всё чаще прибегает к этим действиям. Психика запоминает: дистанцирование снижает напряжение. Повторяемость закрепляет автоматизм, который срабатывает даже без реальной угрозы.
Граница, которая могла бы помогать различать, превращается в барьер. Она теряет гибкость. Реакции становятся предсказуемыми: напряжение, тревога, дистанция. Контекст не учитывается. Всё, что вызывает внутренний дискомфорт, воспринимается как вторжение.
Это уже не выбор, а автоматическая реакция. Некоторые защитные механизмы ограничивают контакт и отсекают доступ к собственным чувствам. Человек постепенно теряет способность выдерживать уязвимость. Близость начинает восприниматься как потенциальная угроза, и даже поддержка вызывает настороженность.
Это уже не защита, а форма бессознательного насилия над собой. Вся внутренняя энергия направляется на поддержание дистанции. Многие приходят в терапию с искажённым пониманием границ. И это не всегда следствие воспитания — истоки могут быть разными. Но решающим является не то, откуда берётся проблема, а то, каким путём человек проходит её проработку.
На начальном этапе психотерапии ключевая задача — восстановить границы. Этот процесс часто сопровождается сильными эмоциональными реакциями: агрессией, гневом, ощущением «мне все должны». Или же решительным отказом терпеть, уступать, идти на контакт.
Это отчаянная попытка вернуть себе автономию, почувствовать себя отдельным существом, восстановить утраченную способность влиять на рубежи между собой и миром. Но важно, чтобы этот этап остался тем, чем он является, переходной фазой. Если терапия прерывается именно в этот момент, жёсткая защита может ошибочно восприниматься как признак зрелости.
На самом деле это — консервация травматической структуры. Граница остаётся негибкой, а контакт — поверхностным или болезненным. Дальнейшая работа сосредотачивается на развитии гибкости. Граница должна быть живой, способной меняться, учитывать контекст.
Как показывает модель Дональда Калшеда, жёсткая структура не только защищает, но и изолирует травму. Чем плотнее капсула, тем сложнее добраться до истинных чувств и памяти. Снаружи человек может казаться собранным, стабильным, зрелым. Но внутри — замороженное напряжение, которое тело и психика вынуждены удерживать.
Нужно помнить, что работа с травмой почти всегда вызывает сопротивление. Один из самых типичных примеров — резкая эмоциональная реакция на сомнение в правдивости собственных воспоминаний.
Современная наука подтверждает: память не архив, а постоянная реконструкция. Исследования Элизабет Лофтус, Джули Шоу, Даниэля Канемана и других показывают, что воспоминания формируются заново каждый раз, в зависимости от убеждений, обстоятельств, эмоционального состояния. Они неизбежно содержат искажения, не всегда критические, но системные.
Я упоминала об этом в одном из видео и получила немало комментариев вроде: «Вы хотите сказать, будто я выдумала, что меня унижали?» Это — типичная автоматическая реакция защиты, встроенная в капсулу, которая имеет свою жёсткую логику: «Никогда больше». «Никогда больше не допустить сомнения». «Никогда больше не пережить того же самого».
Но терапия не разрушает защиту, она делает её осознанной и видимой. На место автоматической реакции приходит способность распознать момент активации защиты и увидеть, что за ней стоит. Это и есть восстановление способности к различению. Граница остаётся, но уже не закрывает, она настраивается. Контакт становится возможным без угрозы потерять себя.
На определённом этапе терапия меняет направление. После стабилизации границ появляется пространство для развития их тонкости, чувствительности, пластичности. Человек начинает регулировать дистанцию осознанно, а не по инерции реактивности. Интеграция начинается с изменения восприятия: то, что раньше казалось взаимоисключающим, начинает сосуществовать. Появляется способность выдерживать внутреннее напряжение. Опора смещается с привычки реагировать - на внутреннее наблюдение.
Этот глубинный процесс символизирует уроборос — змея, кусающая собственный хвост. В юнгианской традиции это символ unus mundus — единства, целостности, внутренней связи всех противоположностей.
В терапевтическом смысле это можно сформулировать так: «Защищаясь от Другого — я раню себя. Взаимодействуя — я встраиваю его отклик в собственный опыт».
Интеграция не отменяет границ, а делает их живыми. Она опирается на способность различать, выдерживать и оставаться в контакте без потери себя. Граница не исчезает — она перестаёт быть барьером и становится гибким посредником между «я» и миром.
В терапии это выглядит как постепенное уменьшение автоматических защит. Клиент начинает замечать, где срабатывает старая схема, а где уже можно выбрать другую, более соответствующую настоящему моменту реакцию. Психика учится удерживать противоречивые состояния одновременно и во внутреннем пространстве, и в отношениях. Это новый уровень чувствительности, где напряжение не разрушает, а трансформирует.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.









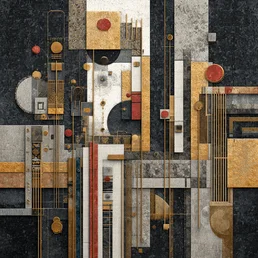






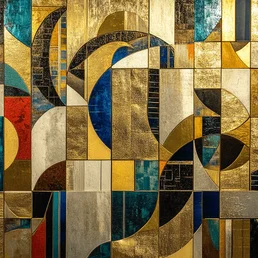







Комментарии
Ваш комментарий будет первым!