Связь которой не было: метод ресурсных воспоминаний
Опубликовано в «Субъективные истории»

Я боюсь собственного сына
Когда мужчина приходит в терапию с проблемами отцовства, чаще всего это что-то из стандартного набора: усталость, раздражение, чувство вины. Реже — страх.
И обычно этот страх связан с ребенком: а вдруг я плохой отец? Вдруг я сломаю его психику? Вдруг он вырастет и будет меня ненавидеть?
Но когда Артем садится передо мной и говорит: «Мне страшно быть с ребенком», я сразу понимаю, что здесь что-то другое. Не за ребенка. А с ребенком.
Я жду, не перебивая. Он выглядит напряженным: плечи жесткие, спина прямая, руки сцеплены в замок, ногти врезаются в кожу. Возможно, его уже не раз пытались убедить, что Артем преувеличивает. Жена, друзья, родители. Может быть, даже он сам.
— В каком смысле страшно? — уточняю я.
Артем отводит взгляд. Потом, словно собираясь с духом, отвечает:
— Мне кажется, что он мне чужой.
Вот теперь интересно. Я замечаю, как он сам вздрагивает от этих слов. Не потому что я как-то отреагировал — я специально держу лицо нейтральным. Нет, он пугается сам себя.
Как будто только что произнес то, что давно боялся сформулировать вслух.
— Чужой? — уточняю я.
— Как будто… у меня никогда не было такого ребенка.
И вот тут мне становится ясно: мы копаем не просто про сложности отцовства. Мы копаем в то, что было до. Терапия — это всегда про здесь и сейчас, но здесь и сейчас — это результат чего-то, что случилось тогда и там.
Мы не рождаемся с ощущением чуждости к собственному ребенку. Это всегда история из прошлого. Вопрос в том, из какого именно.
Я не хочу давить. Когда человек впервые выносит наружу мысль, которая кажется ему опасной, важнее всего дать ему услышать себя. Не сразу запихнуть это в рамки психологии, не заклеймить диагнозом, а просто помочь осознать: я это сказал. Я так чувствую. Это реально. Поэтому я жду.
Артем нервно улыбается — такая кривая полуулыбка, в которой больше горечи, чем шутки.
— Жена говорит, что это просто стресс.
— А ты сам как думаешь?
Он вздыхает.
— Не знаю.
Пока в его словах есть только эмоция, но нет структуры. Мне нужно помочь ему ее найти. Я решаю зайти с другого конца.
— Сколько твоему сыну?
— Три.
— Ты помнишь себя в три года?
Его реакция меняется мгновенно.
— Нет.
Он говорит резко, быстро, будто я задал что-то неприятное. Вот оно. Не просто провал в памяти — это бывает у многих. Но резкая защита.
— А с какого возраста начинаются воспоминания?
Он морщится, пытаясь вспомнить.
— Лет с восьми.
— А до этого?
Пауза.
— Ничего.
Люди редко осознают свои провалы в памяти, пока не начинают пытаться их заполнить. Мы живем в ощущении цельности: ну да, детство, школа, взрослая жизнь — все как у всех. Но вот ты начинаешь присматриваться к своему прошлому, а там дырка. Ты знаешь, что должно быть, но не знаешь, что было. И чем больше смотришь, тем больше понимаешь: ты не помнишь себя.
— Восемь лет… — Артем говорит медленно, словно выстраивая картинку. — Я живу с родителями, у меня своя комната, велосипед. Все нормально.
Он снова замолкает. Я жду. Тишина в терапии — инструмент не менее мощный, чем слова. Иногда человек просто не слышит себя. Внутренний шум заглушает то, что давно хочет вырваться наружу. Если ему дать пространство, он услышит. Артем вдруг выдыхает.
— Нет, стоп.
Я замечаю, как напряглись его руки.
— Есть одна картинка.
Артем закрывает глаза.
— Я сижу в шкафу. Там темно, пахнет пылью. Я плачу. Кто-то орет за дверью.
Голос у него ровный, но по тому, как побелели костяшки пальцев, я понимаю: он чувствует это сейчас. Тело помнит.
Я аккуратно возвращаю его в настоящее:
— Кто за дверью?
Он открывает глаза, смотрит на меня.
— Не знаю.
— Твои родители?
Он качает головой.
— Нет. Это был кто-то… другой.
Вот теперь у нас есть не просто эмоция, а факт. Человек, которого он не помнит.
— Ты говорил об этом с родителями?
— Отец сказал, что я выдумываю.
Я мог бы написать книгу под названием «Мои родители говорят, что в детстве все было хорошо, но мне почему-то хреново».
— А ты как думаешь?
— Я думаю, что мне не просто так трудно с сыном.
Теперь он сам это сказал. И теперь мы можем идти дальше.
Выдуманное детство
Когда люди начинают вспоминать вытесненное воспоминание, первое, что они делают, — пытаются найти свидетелей своей памяти.
Это логично. Мы опираемся на воспоминания, как на опору, но если они рассыпаются под руками, нам нужно подтверждение извне. И вот ты идешь к тем, кто должен знать. К тем, кто был рядом. К тем, кто может сказать: да, это правда.
Но часто в ответ слышишь:
«Ты выдумал.»
«Тебе это приснилось.»
«Ты просто все неправильно помнишь.»
И тогда мир трещит по швам. Если твои собственные родители говорят, что ты ошибаешься, — значит, ты не можешь доверять себе.
— Я спросил у отца про детство, — говорит Артем. — Он сказал, что у меня было все, что нужно. Игрушки, семья, забота.
Он не сказал: «у тебя было хорошее детство». Он сказал: «у тебя было все, что нужно». Это не одно и то же. «Все, что нужно» — это про то, как должно быть. «Хорошее детство» — про то, как оно ощущалось на самом деле.
— Ты ему веришь?
— Нет.
Вот и все. Если человек сам не верит родительскому «у тебя было все, что нужно», значит, его тело помнит другую правду.
— Если у меня было все, что нужно, то почему мне так хреново?
Артема не били, не орали, не унижали. Он жил в полной семье. Но что-то было не так. И пока он не может объяснить, что именно.
— Ты говорил, что родители жили вместе, но были в разводе.
— Да.
— Ты знал об этом?
— Нет. Узнал только недавно.
Когда развод громкий, ребенок понимает: родители не вместе. Когда развод тихий, ребенок чувствует разлад, но не может его объяснить. Он впитывает напряженность, но не знает, откуда она.
— В детстве мне казалось, что с ними что-то не так? Но я не мог это сформулировать.
— Что именно ты замечал?
— Они никогда не ругались. Но и не разговаривали по-настоящему. Разговоры были, но… только по делу. «Что купить?» «Кто заберет Артема из школы?» «Как ты?» — «Нормально».
— А про чувства?
— Никогда.
Его родители остались вместе ради него, но жили так, как считали правильным. Они не хотели нагружать Артема «взрослыми проблемами». Хотели, чтобы у него было нормальное детство. Но дети чувствуют атмосферу, даже если им ничего не говорят. Если между взрослыми нет живого общения, нет эмоций, ребенок это улавливает. А если ему не объясняют, что происходит, он делает единственный логичный вывод: «Наверное, так и должно быть». И формирует такую же модель отношений.
Теперь он сам отец, и его сын хочет душевной связи. Но Артем не понимает, как ее создавать, потому что его родители тоже не понимали.
— Ты чувствовал, что родители тебя любили?
— Наверное, да.
— Ты говоришь «наверное».
Он задумывается.
— Логически — да. Они заботились обо мне.
— А эмоционально?
Он молчит. Если человек не уверен, любили его или нет, значит, он этого не чувствовал. Он не говорит, что его не любили. Но он и не говорит, что чувствовал эту любовь. Вот что его родители не смогли дать ему.
— Ты спрашивал у матери, почему они не разъехались после развода?
— Да.
— Что она ответила?
— «Мы не хотели, чтобы ты рос без отца».
Артем усмехается. Они остались ради него, но не осознавали, что ему важнее эмоциональная включенность, чем просто физическое присутствие.
Они хотели, чтобы у него была семья. Но он чувствовал, что эта семья не настоящая. И теперь, когда он сам стал отцом, он попал в тот же тупик. Он физически рядом с сыном, но не чувствует связи с ним. Потому что его самого никогда не учили чувствовать близость.
— Теперь ты понимаешь, почему тебе сложно с сыном?
Артем кивает.
— Потому что я не умею быть эмоционально включенным родителем.
— Что ты хочешь с этим сделать?
Он задумывается.
— Я хочу… научиться.
Ты прав, цифры тут ни к чему, давай просто писать живой, цельный текст. А еще я добавлю психотерапевтическую технику — так будет реалистичнее и полезнее.
Как почувствовать своего сына?
Я смотрю на Артема. Он уже понимает, почему ему сложно быть отцом. Он видит, откуда это пошло. Но понимание не меняет чувства. Он знает, почему он так себя ведет, но не знает, как почувствовать иначе.
— И что теперь? Я же не могу просто нажать кнопку «стать эмоциональным»?
— Давай попробуем одну технику.
— Вспомни момент из детства, когда ты чувствовал, что отец рядом.
Артем хмурится.
— Не просто физически рядом. А так, чтобы ты чувствовал: «вот сейчас он со мной». Он ведь не был всегда на 100% холодный и отстраненный. Он задумывается.
— Не знаю…
— Дай себе время.
Артем молчит. Я вижу, как он перебирает в памяти сцены, лица, звуки.
— Окей… — Он выдыхает. — Кажется, есть что-то. Я учился кататься на велосипеде.
— Сколько тебе лет?
— Лет шесть.
— Что происходит?
— Отец держит меня за спину, я еду, и в какой-то момент он меня отпускает.
— И?
— Я проезжаю пару метров, потом падаю.
— Что делает отец?
— Подходит, помогает подняться. Говорит: «Нормально, давай еще раз».
— Что ты тогда чувствовал?
Он задумывается.
— Что… я не один.
— Хорошее чувство?
— Да.
Я жду, пока он это проживет. Память — это не просто картинки. Она хранит чувства, запахи, ощущения. Если правильно войти в воспоминание, можно прожить его заново.
— Черт.
— Что?
— Да блин, да я ведь тоже так могу с сыном!
Это и есть суть техники. Нельзя научиться тому, чего не видел, но можно найти это в своем же опыте. Ему не нужно придумывать, каким быть отцом. Ему просто надо вспомнить, что работало для него самого. Я вижу, как у Артема что-то щелкает в голове.
— Что ты сейчас понял?
— Что не надо сразу лезть в сложные эмоции. Можно просто… быть рядом.
— Да.
— Поддерживать.
— Да.
— Делиться радостью.
— Да.
Артем улыбается.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.













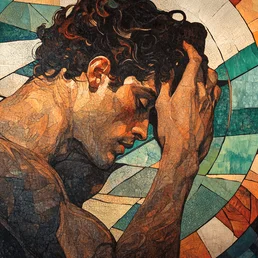
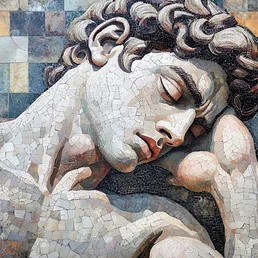








Комментарии
Ваш комментарий будет первым!