Юлия Кристева. Иностранцы для самих себя. Обзор книги
Опубликовано в «Опыт»

Юлия Кристева — французская философ, психоаналитик, лингвист, писатель. Родилась в Болгарии в 1941 году. В 22 года покинула родину и переехала во Францию. Этот опыт стал ключевым для её размышлений о чужаке и внутренней инаковости. «Французский — язык моей мысли. Болгарский — язык моего сна. Когда я говорю, я на границе. Я и тут, и там. И нигде.»
Сегодня Кристева известна как одна из крупнейших фигур структурализма и постструктурализма, автор концепций в области философии языка, психоанализа и культурологии. Она участвовала в семинарах Лакана, до сих пор практикует, как психоаналитик.
В этом обзоре я хочу сосредоточиться на психоаналитическом контексте книги “Иностранцы для самих себя”.
Внутренний чужак как структура субъекта
Кристева рассматривает чужака не только как внешнего другого, но прежде всего как феномен внутренней жизни. Чужак — это часть самого субъекта, вытесненная и отвергнутая, источник тревоги и внутреннего конфликта. Она пишет: «Чужак начинается там, где возникает внутреннее отвержение, там, где Я отказывается принять часть самого себя».
Психологически чужак — это всё то, что не вписывается в привычный образ Я. Он воплощает то, что мы стараемся не замечать в себе: вытесненные желания, травматические воспоминания, противоречивые импульсы. По Кристевой, любой человек в какой-то момент становится иностранцем для самого себя, потому что обнаруживает в себе нечто, что не совпадает с его самостью. «Чужак начинается с того момента, когда Я открывает в себе самого себя как чужака», — подчёркивает она.
Иностранец, чужак — не обязательно приезжий. Это может быть тот, кто молчит. Или тот, кто слишком громко говорит. Это человек, который разрушает иллюзию того, что существует только одна правда, один центр, одно Я. Он требует множества голосов.
Я сам себе чужак, потому что никогда не была полностью дома. Родина — миф. Семья — временная сцена. Язык — инструмент, которому я учусь заново на каждом шагу. Я собираю себя, как рассыпанные ноты. Ни одна не принадлежит мне полностью, но в их сочетании — моя мелодия.
Если я отталкиваю чужака, делаю это не из страха перед другим, а из страха перед собой. Он напоминает мне, что моя идентичность лишь конструкция, временный союз привычек, языка и культуры. Он вторгается в мой порядок, как бессознательное в речь. Он — раздражающее напоминание, что и я мог бы быть на его месте.
«Чужак — это вытесненное. Он возвращается в моменты, когда границы я колеблются. Когда привычное становится незнакомым. Когда мы сталкиваемся с собственным бессознательным — не в сновидении, а в живом теле другого.»
Мигрант, изгнанник, молчаливый сосед — они не просто «другие». Они — сцена, на которой мы можем встретиться с собой. Но чаще мы отворачиваемся. Создаём карикатуру: чужой как угроза, грязь, шум, болезнь. Это защитный механизм: сделать его неполноценным, чтобы не признать в нём себя.
Юридические границы, паспорта и заборы — лишь продолжение психических барьеров. Мы боимся не чужого, а страха, который он вызывает. Он трогает нашу незащищённость, нашу утрату. Он напоминает, что «быть дома» — привилегия, а не естественное право.
«Принимая чужого, я учусь терпеть тревогу неопределённости. Принимая его — я принимаю, что у меня нет окончательной формы.»
Почему мы иностранцы для самих себя
Кристева утверждает, что процесс субъективации невозможен без столкновения с чужаком в себе. Человек постоянно находится в напряжении между потребностью в целостности и фактом внутренней раздробленности. «Каждый из нас — метафорический иностранец в собственной стране. Каждый — изгнанник из страны своего Я», — пишет она.
Мы становимся иностранцами для себя, когда сталкиваемся с бессознательным, с травмой, с внутренней амбивалентностью. Эта встреча вызывает тревогу, потому что разрушает иллюзию цельности. Но именно признание внутреннего чужака делает возможной подлинную интеграцию. Принятие инаковости внутри себя открывает пространство для диалога с другими и снижает потребность проецировать агрессию наружу.
История образа чужака
Кристева прослеживает, как менялось отношение к чужаку в культуре Европы.
В античности чужак был элементом порядка, но не мог стать гражданином. В христианской традиции он вызывал милосердие и одновременно подозрение как носитель зла. В средние века чужаком становились жиды, еретики, бродяги. В модерне чужак появляется как фигура человека вне индустриального и национального порядка. В XX веке он превращается в объект массовой репрессии.
Она пишет: «Чужак — это тот, кто разрушает образ идентичности, создаёт вражду там, где её не было». Национальная идентичность строится через отграничение от чужака, что рождает политику исключения и насилия.
Чужак в литературе
Кристева показывает, как литература фиксирует феномен чужака.
У Кафки чужак — это не просто иной, а сама экзистенциальная данность человека. Его герои обречены на существование вне системы, без права быть принятыми. Они — вечные просители, лишённые возможности стать своими.
У Достоевского чужак символизирует внутреннюю раздвоенность человека, драму совести, невозможность примирения с собой и миром.
Монтескьё в Персидских письмах использует взгляд чужака для критики европейского общества. Персы замечают то, что европейцы не видят: абсурдность норм, лицемерие, двойные стандарты.
Чужак и современность
Идеи Кристевой актуальны сегодня. Европа переживает рост ксенофобии, усиление риторики жёсткого контроля границ, борьбу с мигрантами. Проекты наподобие стены на границе США и Мексики — примеры того, как страх перед внутренним чужаком переносится на внешнего.
Украинский опыт добавляет к этим рассуждениям особый контекст. Миллионы беженцев, покинувших страну из-за войны, оказались в положении чужаков. Несмотря на поддержку, многие сталкиваются с бытовой ксенофобией, особенно дети и подростки в школах. Случаи травли, изоляции в детских коллективах подтверждают слова Кристевой: чужак становится экраном для проекций коллективной тревоги и агрессии.
Психологический смысл интеграции чужака
Для Кристевой принятие внутреннего чужака — это путь к подлинной целостности. Пока субъект не интегрировал вытесненное, он остаётся заложником проекций и расщеплений. Она подчёркивает: «Чужак — это наша тень, но именно тень, принятая и понятая, даёт нам шанс быть людьми».
Для психолога это означает необходимость работать не только с явными конфликтами, но и с глубинными структурами тревоги, вытеснения, проекции. Инаковость внутри нас требует диалога, а не подавления.
Практические выводы для психологов
- Неприятие чужака — показатель непринятия вытесненных частей себя.
- Чужак — экран для проекций травматического и абъектного.
- Работа с образом чужака — способ интеграции тени и снижения агрессии.
- Принятие внутреннего чужака открывает путь к принятию инаковости внешнего.
«Иностранцы для самих себя» — книга о том, как внутренний и внешний чужак формируют личность и культуру. Отношение к чужаку показывает, способен ли человек выдерживать сложность и амбивалентность. Для психологов это текст, который даёт ключ к пониманию индивидуальной и коллективной динамики страха, агрессии, проекций и возможности их преодоления.
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.











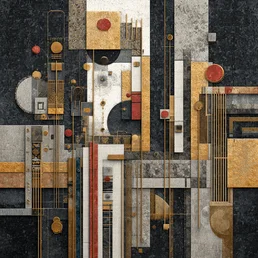







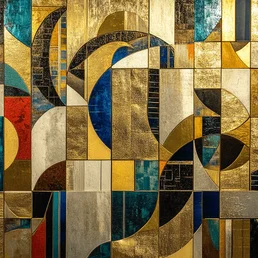






Комментарии
Ваш комментарий будет первым!