Предвзятость восприятия, нарцисизм, одиночество и другие свежие научные исследования
Опубликовано в «Опыт»

Представляем вам подборку кратких обзоров самых свежих психологических исследований. Эти работы помогают понять, как наши эмоции, восприятие и социальные отношения формируются, искажаются и влияют друг на друга - от семейных ценностей и одиночества до гендерного неравенства и предвзятых суждений.
Ошибка восприятия желаемого за действительное
Люди часто неверно воспринимают ценности и убеждения близких им людей, предполагая, что те видят мир так же, как они сами. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology.
В шести исследованиях с общим числом участников 2248 человек (в четырех странах — Финляндии, Израиле, Италии и Польше) использовался парный дизайн опросов. Каждый участник сначала заполнял стандартную шкалу ценностей Шварца (Schwartz Value Survey), оценивая такие ценности, как традиции, гедонизм, универсализм, безопасность и саморазвитие. Затем он оценивал, насколько эти ценности характерны для близкого человека — супруга или партнера, родителя, ребенка или близкого друга. Эти близкие также независимо заполняли собственные анкеты, что позволило точно сопоставить реальные ценности с их восприятием.
Результаты анализа показали устойчивый и значимый эффект систематического завышения предполагаемой схожести ценностей (overestimation bias). Даже после поправки на реальные ценности другого человека люди продолжали верить, что взгляды близких гораздо ближе к их собственным, чем это было на самом деле.
Статистический анализ включал мультиуровневые модели и корректировки на реальную схожесть ценностей. Важным результатом стало то, что эффект сохранялся даже при строгом контроле этих факторов, что указывает на наличие мотивированного мышления (motivated reasoning) — человек склонен интерпретировать информацию в удобном для себя ключе, «видя» в другом то, что хочет видеть.
Эффект был особенно выражен в отношениях с высокой эмоциональной близостью. Например, завышение предполагаемого сходства было сильнее в романтических парах и семейных связях, чем в дружеских. Исследования также показали, что люди демонстрируют большую уверенность в своих оценках близких, несмотря на их неточность.
В некоторых экспериментах использовались специальные условия, где участникам предоставляли реальные данные о ценностях их партнёра (feedback condition). Даже при этом информировании участники продолжали сохранять искажения восприятия, что подчеркивает устойчивость и глубину эффекта.
Исследователи подчеркивают важные последствия этих результатов для семейной и межпоколенной социализации. Если, например, дети ошибочно считают ценности родителей полностью совпадающими с их собственными, это может препятствовать реальному осмыслению и усвоению этих ценностей. Такое искажение может способствовать поверхностному согласованию и снижению глубины межпоколенного диалога о ценностях.
Авторы отдельно отмечают межкультурный характер работы: все шесть исследований были проведены в разных странах, что позволило проверить универсальность эффекта. Во всех выборках наблюдалась стабильная тенденция к завышению воспринимаемой схожести ценностей, что говорит о широком и устойчивом характере этого психологического механизма.
Полный текст исследования доступен здесь: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspi0000482
Стресс, связанный с психопатологическими состояниями
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Psychopathology and Clinical Science, большинство людей демонстрируют выраженные временные колебания психопатологических состояний в дни с повышенным уровнем стресса. Это подчёркивает важность изучения динамических процессов, а не только стабильных личностных черт.
В исследовании использовался дизайн «экологической моментальной оценки» (Ecological Momentary Assessment, EMA), который позволил собрать 13 493 ежедневных отчёта от 408 взрослых участников из США. Средний возраст выборки составил около 40 лет; в выборке было примерно равное количество мужчин и женщин. Такой подход обеспечил плотный продольный мониторинг эмоционального и поведенческого состояния в естественных условиях повседневной жизни.
Каждый день на протяжении нескольких недель участники заполняли анкеты на мобильных устройствах. Они сообщали о наличии и серьёзности стрессовых событий, включая ссоры, конфликты на работе, бытовые проблемы, финансовые трудности и другие формы стресса. Отдельно оценивалась субъективная интенсивность негативных эмоций, таких как страх, грусть, тревога и раздражение.
Для оценки психопатологических состояний использовались краткие валидированные шкалы, адаптированные из модели HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology).
Участники ежедневно оценивали:
- Негативная аффективность (неспецифическая склонность к негативным эмоциям)
- Антагонизм (враждебные и агрессивные мысли и чувства)
- Отчуждённость (Detachment) (социальная отстранённость, эмоциональная холодность)
- Расторможенность (Disinhibition) (импульсивность, трудности самоконтроля).
Статистический анализ проводился с помощью смешанных линейных моделей (multilevel models), что позволило учитывать вложенность ежедневных наблюдений внутри индивидов. Это дало возможность одновременно оценивать общие закономерности и индивидуальные различия (идиографический подход).
Результаты показали, что в дни с более высоким уровнем стресса участники сообщали о значительном повышении выраженности всех четырёх доменов психопатологических состояний. Стрессовые события были надёжно связаны с усилением симптомов, причём этот эффект сохранялся при контроле других факторов (например, базового уровня негативного аффекта).
Особое внимание уделялось роли устойчивых личностных черт. В начале исследования участники также прошли анкетирование для оценки стабильных психопатологических черт по тем же четырём доменам. Анализ показал, что люди с более высокими уровнями этих черт демонстрировали более сильные реактивные подъёмы психопатологических состояний в стрессовые дни.
Интересно, что эта связь не всегда была строго специфичной. Например, более высокий уровень антагонизма как черты был связан не только с усилением антагонистических состояний, но и с повышенными проявлениями отчуждённости и негативной аффективности. Это указывает на то, что такие черты отражают общую уязвимость к стресс-индуцированным психопатологическим реакциям, а не только склонность к одной узкой форме симптомов.
Идиографический анализ показал заметные межиндивидуальные различия: у разных людей наблюдались уникальные комбинации чувствительности к стрессу и выраженности состояний. Это подчёркивает важность персонализированного подхода в оценке и лечении психопатологических состояний.
Авторы исследования подчёркивают, что эти результаты демонстрируют необходимость учитывать динамические колебания психопатологических симптомов в реальном времени, а не ограничиваться статичными диагнозами или чертами. Такой подход имеет важные клинические последствия, включая разработку адаптивных вмешательств, которые учитывают индивидуальные паттерны реагирования на стресс.
Полный текст исследования доступен здесь: https://doi.org/10.1037/abn0000954
Одинокий, но любимый
Одинокие люди часто недооценивают, насколько сильно их близкие заботятся о них. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology.
В трёх исследованиях с общей выборкой 255 студентов-бакалавров и 447 романтических пар исследователи оценивали уровень одиночества участников и их восприятие заботы со стороны близких. Участники заполняли анкеты о своём субъективном чувстве одиночества и о том, насколько они чувствуют заботу и внимание от партнёров.
Ключевой результат заключался в том, что более высокий уровень одиночества был связан с худшим восприятием заботы со стороны партнёров, даже при учёте объективных индикаторов этого поведения. Чтобы проверить это, авторы использовали многомерные источники данных:
- самооценки партнёров о том, насколько они заботятся и уважают участников;
- отчёты близких друзей (информантов) о характере отношений;
- оценки наблюдателей, которые кодировали поддерживающее поведение партнёров на видео.
Даже при учёте этих независимых источников информации одиночество оставалось значимым предиктором заниженного восприятия заботы. Другими словами, одиночество не отражало просто отсутствие фактической поддержки со стороны партнёра — оно связано с искажённым восприятием этой поддержки.
Кроме того, исследование показало, что восприятие заботы опосредует связь между одиночеством и качеством отношений. Люди с более высоким уровнем одиночества сообщали о меньшем удовлетворении отношениями, меньшей приверженности и слабом проявлении поведения, поддерживающего близость — например, о снижении самораскрытия и предложений поддержки.
Эти эффекты оказались устойчивыми даже при контроле важных индивидуальных различий, таких как общая самооценка и особенности стиля привязанности (например, тревожность и избегание в привязанности).
Авторы подчёркивают, что одиночество — это не только социальная изоляция, но и когнитивно-эмоциональное состояние, которое может искажать восприятие поддержки и любви в существующих отношениях. Это имеет важные последствия для понимания механизмов, через которые одиночество ухудшает качество близких отношений и общее психологическое благополучие.
Полный текст исследования доступен здесь: https://doi.org/10.1037/pspi0000451
Нарциссизм связан с остракизмом
Нарциссы чаще чувствуют себя исключенными и действительно могут подвергаться остракизму чаще, чем их менее эгоцентричные сверстники. Это показало крупное исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, которое опирается на данные девяти отдельных исследований с общей выборкой более 76 000 человек.
В первых опросах в Германии (N = 1592) участники заполняли валидированные шкалы грандиозного нарциссизма и сообщали, как часто они испытывали социальное исключение (остракизм). Анализ показал, что люди с более высокими показателями грандиозного нарциссизма значительно чаще сообщали об опыте остракизма, чем те, чьи показатели были ниже.
В отдельном дневниковом исследовании (N = 323) участники ежедневно в течение 14 дней фиксировали моменты, когда чувствовали себя исключёнными или проигнорированными. Результаты подтвердили исходные опросные данные: участники с более высокими уровнями нарциссизма сообщали о большем числе эпизодов ощущения исключенности. Это укрепило аргумент, что связь нарциссизма и остракизма проявляется не только в ретроспективных оценках, но и в повседневной жизни.
Кроме того, авторы провели серию из шести дополнительных исследований с участием более 2500 человек, чтобы изучить механизмы этой связи. В этих работах проверялись два ключевых аспекта:
- Чувствительность к неоднозначным сигналам исключения: участники с более высоким уровнем нарциссизма сильнее реагировали на неопределённые или двусмысленные признаки возможного исключения, воспринимая их как реальные угрозы социального отвержения.
- Провоцирующее поведение: нарциссические черты предсказывали более высокую вероятность поведения, которое вызывало раздражение и отторжение у окружающих, что действительно повышало риск быть исключенным из групп.
Эти исследования опирались на эксперименты и мультиметодные дизайны (опросы, поведенческие задания), что позволило повысить надежность выводов.
Наконец, наиболее масштабная часть работы базировалась на данных национальной лонгитюдной панели Новой Зеландии (New Zealand Attitudes and Values Study) с выборкой 72 289 человек и наблюдением на протяжении 14 лет. Лонгитюдный кросс-лаговый анализ показал взаимную связь между остракизмом и нарциссизмом:
Чувство социального отчуждения и исключенности предсказывало рост нарциссических черт через год.
В то же время более высокий уровень нарциссизма предсказывал повышение чувства отчуждения в будущем.
Эти данные свидетельствуют о двусторонней динамике: переживание остракизма может усиливать нарциссические черты, а нарциссизм, в свою очередь, делает людей более уязвимыми к ощущениям социального исключения. Авторы подчеркивают, что такой замкнутый цикл может способствовать закреплению нарциссических черт на протяжении жизни.
Таким образом, это крупное мультиметодное и многонациональное исследование дает убедительные доказательства сложных взаимосвязей между нарциссизмом и остракизмом, включая краткосрочные повседневные эффекты и долгосрочные изменения личностных характеристик.
Полный текст исследования доступен здесь: https://doi.org/10.1037/pspp0000547
Время и культура формируют моральные ориентиры
Относительные различия во времени и культуре начинают систематически влиять на моральные суждения детей примерно к 8–9 годам. Это показало исследование, опубликованное в Developmental Psychology, в котором изучалось, как дети из США и Китая оценивают хорошие и плохие поступки в зависимости от того, произошли ли они в прошлом или запланированы на будущее.
В исследовании приняли участие 346 детей в возрасте от 6 до 9 лет из США и Китая. С помощью индивидуальных интервью детям предлагались гипотетические сценарии, описывающие моральные (например, помощь другу) и аморальные (например, причинение вреда другому) действия. Основным элементом дизайна была временная манипуляция: действия были представлены либо как произошедшие на прошлой неделе, либо как запланированные на следующую неделю. Участников просили оценить, насколько сильно человек заслуживает похвалы или порицания за эти поступки, а также объяснить свои ответы.
Ключевые результаты показали культурно специфичную временную асимметрию в моральных оценках. К 8–9 годам американские дети демонстрировали выраженное смещение в сторону будущего (future bias), аналогичное взрослым в США: они считали, что будущие хорошие поступки заслуживают большей похвалы, чем аналогичные действия в прошлом, и более строго осуждали плохие поступки, которые должны произойти, по сравнению с уже совершёнными. В отличие от этого, китайские дети того же возраста демонстрировали противоположную тенденцию (past bias), при которой хорошие поступки, совершённые ранее, считались более заслуживающими признания, а будущие — менее ценными. Плохие поступки в прошлом вызывали более сильное осуждение.
Для детей 6–7 лет наблюдались подобные культурные различия в направлении оценок, но эти различия не достигали статистической значимости, что свидетельствует о том, что такие культурно специфичные моральные предпочтения формируются к 8–9 годам. Анализ объяснений, данных детьми, выявил также культурные различия в содержании морального рассуждения. Американские дети чаще подчёркивали индивидуальный выбор и внутренние качества личности, говоря о желании быть хорошим или решении помочь, тогда как китайские дети чаще ссылались на социальную связанность, групповую норму и обязанность помогать другим.
Авторы исследования интерпретируют эти результаты как свидетельство того, что культура и социальные нормы начинают систематически формировать моральные временные предпочтения примерно к 8–9 годам. Это подтверждает идею, что моральное развитие не только универсально по своей основе, но и глубоко контекстуально, отражая ценности и приоритеты конкретного общества.
Полный текст исследования доступен здесь: https://doi.org/10.1037/dev0001825
Смирение подавляет гнев
Смирение связано с более низким уровнем гнева и меньшей склонностью приписывать враждебные намерения другим людям в неоднозначных социальных ситуациях. Это показало исследование, опубликованное в Personality and Individual Differences, в котором использовались опросные и экспериментальные методы для выявления связи между смирением и агрессивными реакциями.
В первых двух исследованиях с участием 278 взрослых из США измерялись когнитивное смирение (готовность признавать ограничения собственных знаний и открытость к альтернативным взглядам) и общее смирение как черта личности. Участники оценивали свой уровень смирения по валидированным шкалам, после чего читали описания социальных ситуаций с неопределёнными намерениями другой стороны (например, кто-то случайно толкает их в коридоре) и сообщали, насколько они приписывают этому человеку враждебные мотивы. Результаты показали, что более высокий уровень смирения был связан с меньшей склонностью делать враждебные атрибуции и с более низкой самооценкой переживания гнева в ответ на эти сценарии. Также смирение оказалось отрицательно связано с более общими показателями физической агрессии, вербальной агрессии и враждебности, измеренными через стандартизированные опросники (например, Buss-Perry Aggression Questionnaire).
В третьем исследовании участвовали 96 человек, которых случайным образом распределили в одну из двух экспериментальных условий. В «смиренной» группе участники выполняли письменные задания, направленные на повышение смирения, включая упражнения на признание своих ошибок, ограниченности знаний и благодарности другим. Контрольная группа выполняла задания на общую саморефлексию без акцента на смирении. После этого все участники читали аналогичные неоднозначные сценарии и сообщали об уровне гнева и склонности приписывать враждебные намерения.
Результаты показали, что участники, прошедшие интервенцию на смирение, сообщили о значимо более низком уровне эмоционального гнева при интерпретации ситуаций. Однако различий между группами в уровне враждебных атрибуций или показателях поведенческой агрессии обнаружено не было. Это говорит о том, что кратковременное усиление смирения в первую очередь снижает эмоциональную реактивность на потенциально провоцирующие ситуации, но не всегда меняет когнитивные интерпретации или готовность к агрессивным действиям.
Авторы работы подчёркивают, что смирение может быть важным личностным ресурсом для эмоциональной регуляции гнева, особенно в неоднозначных или провокационных социальных контекстах. Однако его влияние на когнитивные интерпретации и поведенческие тенденции может требовать более длительных или интенсивных интервенций.
Полный текст исследования доступен здесь: https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112980
Переосмысление гендерного разрыва возмущает, но мотивирует женщин
Переформулировка гендерного разрыва на руководящих должностях в политике с «женщины недостаточно представлены» на «мужчины чрезмерно представлены» вызывает у женщин сильнее выраженный гнев и мотивирует их к действиям по сокращению этого разрыва. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Experimental Social Psychology, в рамках которого был проведён ряд пилотных и одно крупное предварительно зарегистрированное исследование с общей выборкой более 10 000 участников из США и Великобритании.
В этих исследованиях участникам предлагались сфабрикованные новостные статьи о гендерном разрыве в политике и бизнесе. Манипуляция заключалась в том, что статьи описывали одну и ту же статистику двумя разными способами: либо подчёркивалось «недостаточное представительство женщин» (underrepresentation frame), либо «чрезмерное представительство мужчин» (overrepresentation frame). Результаты показали, что именно в политическом контексте формулировка, указывающая на чрезмерное представительство мужчин, вызывала у женщин значимо больше гнева и усиливала восприятие разрыва как несправедливого. При этом у мужчин эти эффекты либо отсутствовали, либо были значительно слабее. В бизнесе подобный эффект фрейминга не проявлялся — что авторы объясняют различиями в воспринимаемой легитимности и политической важности этих сфер.
Анализ данных также выявил, что гнев играл роль медиатора между типом фрейма и последующими действиями или намерениями участников. В пилотных исследованиях женщины, испытывающие больший гнев по поводу неравенства, демонстрировали более сильные поведенческие намерения по сокращению гендерного разрыва. Это включало повышенный интерес к чтению материалов об изменении статус-кво, написание более резких писем в поддержку законодательства, направленного на решение проблемы гендерного неравенства, и большую мотивацию делать пожертвования на программы по сокращению гендерной предвзятости.
Особенно выраженными эффекты были у женщин с левыми политическими взглядами. Это подчёркивает важность контекста и индивидуальных различий в том, как люди реагируют на формулировки, связанные с социальной справедливостью.
Авторы работы делают вывод о том, что способ подачи информации о гендерном разрыве может существенно влиять на эмоциональные реакции и готовность к действию. Представление разрыва как проблемы «чрезмерного представительства мужчин» активирует у женщин восприятие социальной несправедливости и усиливает их вовлечённость в действия, направленные на сокращение неравенства, особенно в политической сфере. Это исследование подчёркивает значимость языковых фреймов как инструмента социальной мобилизации и важность их осознанного использования в публичных дебатах.
Полный текст исследования доступен здесь: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2024.104709
Читать больше
Добавить комментарий
Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.
Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.
Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.












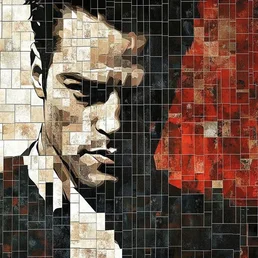












Комментарии
Ваш комментарий будет первым!